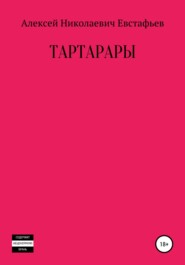
Полная версия:
Тартарары
Прежняя сумасшедшая боль взвинтилась, ухнула и вырубила Евпсихия Алексеевича от всех существующих в нём эманаций Евпсихия Алексеевича, а когда сознание вернулось, то он обнаружил себя на больничной каталке, на которой обычно перевозят тяжело больных. «Где же это я? – оклемавшись от боли, пригляделся к своим новым обстоятельствам Евпсихий Алексеевич, и не нашёл их утешительными. – А везут-то меня куда?..»
Перед ним тянулась ослепительно белая галерея, прерывисто захлёстываемая надрывным тугим звоном и мгновенно исчезающими трещинами, как будто снаружи кто-то изо всех сил лупил по стенам галереи кувалдой. С двух сторон выравнивались ряды причудливых факелов, язычки огня которых пребывали в издевательской неподвижности прожорливых иероглифов. Тележку с Евпсихием Алексеевичем подталкивали два огромных крысиноносых санитара в потрёпанных белых халатах, безнадёжно заляпанных желтизной, и с папиросками в зубах. Рядом шествовал высокий сутуловатый субъект в сверкающе-белоснежном докторском халате, из-под которого выглядывали голые ноги с коленями, вывернутыми назад; но несмотря на столь тягостный изъян, субъект шествовал уверенно, отстреливаясь от всякой кажущейся напасти зрачками прокопчённого цвета, и виртуозно поигрывая длинной тростью. Менторским тоном субъект рассказывал Евпсихию Алексеевичу о физиологических и ментальных страданиях, которые испытывает алкоголик при белой горячке. Санитары угодливо поддакивали и подхихикивали начальнику, на Евпсихия же Алексеевича поглядывали ласково, но с требованием учитывать возможную травмоопасность, если что-то пойдёт не так.
– Где это я? – спросил Евпсихий Алексеевич, рискнув приподняться, но тут же оказался приторможён мощной ладонью одного из санитаров, с вытатуированным на костяшках пальцев именем Уфир.
– Подзаглохни, дядя! – услышал Евпсихий Алексеевич в свой адрес гугнивый басок другого санитара. – Лучше послушай, чему тебя умный человек научит, да на ус мотай.
– Отчего же, пускай и поговорит, ему сейчас непросто в эмоциональном плане. – разрешил сутуловатый субъект, постукивая тросточкой по темечку Евпсихия Алексеевича. – Лишь бы не шалил, а болтать у нас не запрещено.
– Где же это я? – повторил вопрос Евпсихий Алексеевич. – И вы тут кто будете?..
– Вам официально представиться или чисто по-свойски?.. Впрочем, что вам до официальных документов, если вы и самому себе не очень-то верите?
«Евпсихий Алексеевич, вы меня слышите?» – вдруг в голову нашего путешественника проник страдальческий голос Анны Ильиничны.
– А? – встрепенулся Евпсихий Алексеевич.
«Евпсихий Алексеевич, я так перетрусила за вас. – быстренько зашушукала Анна Ильинична. – Ведь вы, когда в бессознательное состояние провалились, то успели крикнуть очень странную фразу: да пошла ты!.. Прямо так и крикнули неистово, а я понять не могла, мне вы это крикнули или кому другому, кого увидели в своём бессознательном?.. А может быть, мне это послышалось?.. Но я так перетрусила, Евпсихий Алексеевич, если бы вы знали… А вот с этим сутулым щёголем я не знакома, первый раз вижу.»
– Очень трудно убедить себя в нереальности того, что происходит рядом с тобой, поскольку следующим шагом может быть сомнение в реальности самого себя. – наслаждаясь переливами изворотливого ума, болтал сутуловатый субъект. – Тут не надо иметь семи пядей на лбу, хотя они, в некотором роде, и не помешают…
– Вы всё это серьёзно мне говорите? – несколько нагловато усмехнулся Евпсихий Алексеевич.
– У меня всё очень серьёзно. Я никогда никого не смешил, и в этот раз точно смешить не буду. Смех – он от народа, культура низа, тыры-пыры… А я народ не люблю.
– Да можно подумать, что вы вообще кого-нибудь любите?
– Работу свою я люблю, Евпсихий Алексеевич. Людям пользу я приношу, Евпсихий Алексеевич, а для того, чтоб людям пользу приносить, вовсе не обязательно их любить.
Галерея упёрлась в массивную железную дверь, украшенную изображением человеческой черепушки и циферками 33, выписанными с вычурной аккуратностью. Невидимая кувалда решительно грохнула по стене в последний раз, и разрыхлённый давящий гул удара обрушился на процессию с каталкой, но никого не ошеломил (даже чересчур взволнованного Евпсихия Алексеевича) а сердито заворчал и отполз в сторонку.
– Вам сюда. – указал сутуловатый субъект на дверь. – Если будут бить – зовите на помощь, но я посоветовал бы вам потерпеть, смириться. Ведь не убьют же, в конце-то концов, а так хоть каждый день по морде получай – вникай в социальную энтропию!..
– А если я не хочу вникать в ваши нелепые идеалы? если вы меня ни за что и ни про что лишаете права свободы? – попробовал затеять перебранку Евпсихий Алексеевич, надеясь отвлечь внимание санитаров и совершить побег. – Это получается безосновательное насилие с вашей стороны, и вам за это отвечать придётся.
– Да что вы за чепуху несёте, право слово?.. Самые несвободные люди, которых я когда-либо встречал, это те, кто громче всех кричат о свободе. Рассуждают о свободе, препарируют её со всех сторон, и даже обещают дать свободу всем-всем-всем, если вы допустите их к власти, но как только её добиваются – осуществляют свои обещания традиционно, манипулятивно.
– Вот вы бы до них и докапывались с медицинским оформлением, хоть и посмертно… Или они вам тоже чего-то пообещали, а вы уши развеселили?
– Нет, в этом плане ваши упрёки несправедливы: у нас здесь все равны. Конечно, имеются VIP палаты, но это чистая формалистика. Лекарство-то для всех одно и тоже, а от смерти ещё никто не вылечивался.
– Много вы знаете. – Евпсихий Алексеевич хотел-было напомнить про воскрешение Лазаря, но промолчал, поскольку его сутуловатый собеседник мог излишне вспылить при упоминании о библейских чудесах, и в отместку напридумывать для Евпсихия Алексеевича каверз.
– А что касается насилия… Так это как в детстве: проявление агрессии всего лишь выражает панический намёк на любовь!
– И часто вас били в детстве?
– Гм. – вот тут сутуловатый субъект обиделся и жутковато скрипнул зубами. – У меня не было детства. У меня, можно сказать, и прошлого-то не было. А вот у вас не будет будущего.
– Вы за это ответите! – слабенько пригрозил Евпсихий Алексеевич.
– Отвечу. – пообещал субъект.
– Очканул, дядя? – подмигнул Евпсихию Алексеевичу гугнивый санитар и принялся озабоченно шарить в карманах халата. – Ща тебе вставят по первое число, тут у нас не курорт… А где же ключ от палаты?
– У тебя, у кого же ещё! – принялся озабоченно принюхиваться крысиным носом Уфир. – Ищи давай!
– Да нету, потерял! – санитар вывернул правый карман наизнанку и указал на дырку: – Вот отсюда ключ вывалился наверняка. Что теперь делать?
– Что теперь делать… – Уфир поковырялся пальцем в дырке, пробуя её на дальнейшую прочность. – Кастелянше отдай зашить – она баба сноровистая.
– А ключ-то где взять? Без ключа-то мне дверь не открыть! – всхлипывающим баском посетовал санитар.
– Ты, братец, теперь будешь называться у нас «маша-растеряша». Хорошо, что у меня запасной ключ имеется.
– Поумней ничего не мог придумать? – обиделся гугнивый санитар на «машу». – Открывай давай.
Дверь с праздничным ветреным шумом распахнулась, санитары хамовато скувырнули Евпсихия Алексеевича с тележки на пол палаты и указали на ближайшую кровать:
– Располагайся!!
– Вот чёрт!! – потёр ушибленное предплечье Евпсихий Алексеевич и даже вознамерился плюнуть.
– Сам убирать за собой будешь. – предостерёг его Уфир. – У нас здесь слуг отменили ещё после октябрьской революции. Нравственное ущемление они, видите ли, испытывают при виде таких забулдыжек, как ты. Пьянь.
«Ничего, Евпсихий Алексеевич, поболит и перестанет. – утешал нашего невольного героя кроткий голос Анны Ильиничны. – Ничего не бойтесь, я с вами.»
Металлическая дверь покорно захлопнулась, сутуловатый субъект каркнул что-то пустяковое, но вызвавшее астматический смех у санитаров, после чего послышались удаляющиеся шаги всех троих. Проворно вскочив на ноги, Евпсихий Алексеевич принял позу человека, который может за себя постоять, и придирчиво осмотрел палату.
В достаточно просторном и по-хорошему прохладном помещение, где очутился наш герой, пахло вкрадчивым формальдегидом и щекотным мужским потом, впрочем, всё остальное находилось в состоянии более-менее опрятном: чистые пластиковые стены с бесхитростно нарисованными опечатанными сосудами в виде амфор, кровати, застеленные свежим однотонным бельём, шесть вместительных, но негромоздких шкафчиков – по одному на каждого больного. Казалось, что все немногочисленные вещи в палате несут на себе заботу, проявляемую разумом добрым и человеколюбивым; впрочем, ножки табуреток и кроватей оказались намертво прикрученными к полу. Окон в палате не имелось, но было приветливо светло, и два необычных плафона, словно два хрупких шарика планет, удочерённых солнцем, медленно ползали друг за другом по потолку, соблюдая правила им одной известной игры. Плафоны источали ломающийся зудливый свет, подобный ленивым весенним лучикам, потирающимся об шершавый наст снега, точно влюблённая дамочка потирается щекой об щеку своего небритого кавалера.
Из скромной туалетной кабинки выглянул егозистый человечек, нетерпеливо застёгивающий пижамные штаны, и подскочил к Евпсихию Алексеевичу, сильно прихрамывая, но словно бы и в галопе цветущей юности:
– Новенький?.. Допился, родненький?..
– Что-что? – отстранился от назойливого незнакомца Евпсихий Алексеевич.
– Ничего, это я так, просто шучу, вы здесь можете никого не опасаться. Эти-то бестии, – человечек кивнул на дверь, имея в виду санитаров. – только пугают вспышками ярости от алкоголиков, вынужденных презреть старые привычки и отдаться во власть лекарств. А люди здесь добрые собрались, люди неравнодушные к чужой беде, хотя и пришибленные жизнью.
– Лечитесь, значит?
– Ага, лечимся, перемалываем грехи прошлого в стоическое здравомыслие. Условия здесь, можно сказать, комфортные, кормят три раза в день. Только свидания с родственниками запрещены. У вас есть родственники?
– Есть!
– Придётся некоторое время поскучать. Впрочем, и скучать мы вам не дадим – коллектив у нас любопытный, даже занимательный, вызывающий сложную гамму ощущений… местный истэблишмент, так сказать… думаю, вы понимаете мою иронию, у русского пьяницы почему-то очень развито чувство сарказма… Будем знакомиться? Как вас звать-величать?
– Ну что ж, будем знакомиться. Меня звать Евпсихием Алексеевичем.
– Очень приятно. Будем вас звать Евпсихием Алексеевичем, по имени и отчеству. А вот меня зовите просто – Головакиным! Потому что Головакин я и есть.
– Ах вот что! – не сдержал досадливого бурчания Евпсихий Алексеевич. – Вы тут получаетесь Головакин?.. не Шершеньев??
– Вовсе даже не Шершеньев, этот ваш Шершеньев помер давно… Вы к чему интересуетесь Шершеньевым?
– Я и вами интересуюсь, если вы Головакин, а не Шершеньев. Мне только убедиться надо, что вы точно Головакин. Извините, конечно, но вы человек много пьющий, уверен, что с элементами фантастического воображения… Почему вы точно уверены, что вы не Шершеньев?.. Вот что вы о себе помните, как о Головакине?.. Где жили – помните? адресочек свой не назовёте?..
– Да на кой чёрт вам знать мой адресочек?.. Да хотя, пожалуйста, вот вам и адресочек: улица маршала Блюхера, дом семь, квартира 92!.. Я всё прекрасно помню, я самый настоящий Головакин. А они тут все думают, что у меня белая горячка и держат меня здесь третий день, родственников не пускают, считают, что могут вылечить от алкоголя. Ещё и вы теперь с Шершеньевым лезете – совсем за психа меня держите. Не хорошо, Евпсихий Алексеевич.
«Это точно не Шершеньев. – убеждённо высказался голос Анны Ильиничны. – И про Головакина не врёт, поскольку очень на Головакина похож – и морда неблагополучная и сильно прихрамывает – думаю, не врёт. Значит, Евпсихий Алексеевич, у меня не получилось засунуть вас к Шершеньеву, попробуйте разобраться с Головакиным!»
– Получается, что вы у нас тот самый Головакин? – спросил Евпсихий Алексеевич, энергично потирая ладошки друг об дружку, с видом знатного едока, добравшегося-таки до вкусненького.
– Да, я получаюсь тот самый Головакин. – улыбнулся по-приятельски Головакин, не погружаясь в понимание, отчего он вдруг стал «тот самый Головакин» и откуда взялся интерес к его личности. – А вот и мои сотоварищи задушевные, с которыми я провожу тяжкие времена, обживая больничные казематы. Но – не будем излишне сетовать на судьбу, на войне как на войне, как говорится, бывали и не в таких переделках, прорвёмся!.. Это вот Толик, это Стёпа с Аркашей, это Семён Семёныч… Знакомьтесь, Евпсихий Алексеевич, вам теперь от нас никуда не деться.
Семён Семёныч, удивляя неопохмелившейся экзотикой, валялся на кровати в чём мать родила и, кажется, давно хотел высказать что-либо конкретное по конкретному поводу, но всё с мыслями не мог собраться. Аркаша лузгал семечки, отправляя шелуху под матрас соседней кровати, и пытался вчитаться в какую-то потрёпанную книжонку без обложки, но с обрывком титульного листа, где красовались три строгих буквы – то ли БОГ, то ли ГОГ – и рисунок с неким ошалелым титулярным советником. Стёпа перекидывался с Толиком в картишки, время от времени косясь на Евпсихия Алексеевича, чтоб затем легонько потормошить Толика за плечо и, прикладывая палец к губам, намекнуть на чрезвычайную секретность, о которой ещё не пришло время поведать.
– Да я сам всё знаю. – отмахивался Толик. – Ты представляешь, какая у меня соображалка? У меня соображалка– во!!
Толик пружинисто разводил руками как можно шире и принимал вид настолько сосредоточенный, насколько он может быть у разнорабочего на стройплощадке при разгрузке блоков из шлакобетона.
– Это у нас Толик. – Головакин решил представить приятеля с наиболее яркой жизненной стороны. – Добрый малый, и пил исключительно по праздникам, плюс дни поминовения всех родственников и прочих хороших людей. Последний запой – трудно и запоем назвать в нашем понимании продолжительности действа: всего-то пару недель бухал, у сеструхи на работе кто-то из начальства помер. Вот Толик и пил, пока ему не принялись повсюду мерещиться мыши.
– Ничего мне не мерещилось. – запротестовал Толик. – Если б мерещилось, я бы на это дело плюнул с высокой колокольни и спать завалился. А тут самые обычные мыши – серые такие и с хвостами. Если б что-то такое померещилось спьяну, то хотя бы в зелёном цвете или в несуразных размерах, а тут всё в натуральную величину наблюдалось и кусалось. Я даже с энциклопедией юного натуралиста сверялся: точно мыши!!
– Вот-вот, с энциклопедии всё и началось. Обучат дураков грамоте – они и радуются неизвестно чему.
Головакин рассказал, как озабоченный Толик вычитал, что мыши являются злостными разносчиками инфекций, которые неоднократно, на протяжение веков, снижали численность человечества до критических цифр, и решил положить этому конец. Толик ежедневно спускался в подвал собственного дома, где колошматил гаечным ключом по трубам и требовал, чтоб мыши убирались отсюда прочь!.. Основная фаза кризиса наступила, когда одна из мышей заявила Толику, чтоб он «тут слишком не выёживался, а у себя в горах баранами командовал», на что Толик и обиделся.
– Дедушка по материнской линии был родом с Кавказа – и откуда чёртова мышь могла про это знать? – недоумевающе насупился Толик. – Да и чистокровным русским дедушка был, он по-кавказски ни словечка не знал.
Дальше Головакин рассказал, как Толик принялся оптом закупать мышеловки, чтоб расставлять повсюду, где только могла появиться чёртова мышь, намереваясь поймать и скрутить ей башку, дабы другим не было повадно. Особенно любил закладывать мышеловки в залежи магазинных фруктов и овощей, хитроумно соображая, что глупая мышь в первую очередь кинется именно на соблазнительно-ароматный продукт, именно на витаминчики. Однако попадались в цепкие мышеловки сугубо человеческие экземпляры (особенно часто попадались борзоватые тётки, из тех, что любят рыть норы в грудах осеннего картофеля, изыскивая плоды покрупней), после чего с изумлением разглядывали свои окровавленные руки с оттяпанными двумя-тремя пальцами, вызывали врачей и требовали лютой казни для виновных.
– Технические неувязки. – попробовал оправдать себя Толик. – Я же не специалист в этой области, я наивный любитель и энтузиаст. Я хотел в санэпидстанцию на работу устроиться, да в поликлинике на бронхоскопии завалился – мне же некогда было о собственном здоровье подумать.
Толика поймали, кажется, по наводке той самой чёртовой мыши, что имела тесные, а подчас и родственные, связи в городской прокуратуре; Толика приволокли в дурдом, и на все его словесные излияния о том, что он всего-навсего несёт груз социальной ответственности, отвечали, что он гнусный оппортунист, и таким, как он, не место в цивилизационном обществе.
– А разве я мог поступить иначе?.. Если сил нет смотреть, как человечество пребывает в упадке и само себя лишает будущего?.. И если у меня наблюдалась нехватка средств и внутренних дарований, чтоб помочь человечеству в глобальном порядке, то я старался помогать в мелко-частичном режиме. Причём, даже не требуя от человечества чувств глубочайшей признательности. А обвинения в оппортунизме и вовсе подлы, тут решительно не обошлось без происков чёртовой мыши, способной – как мы видим – манипулировать человеческим здравым смыслом нужным ей образом. Но должен признаться, что я устал бороться с несправедливостью и сдался. Разбабахал головой зеркало в тамошнем туалете, и теперь нахожусь вот тут.
– И тебе не стыдно, Толик, признаваться в собственной слабости? – попенял приятеля Головакин. – Надо было превозмочь себя, совладать с унынием. Пока можешь что-то делать – надо это делать так, как будто можешь всё.
– Понятно, что пока можешь, то надо. Но я вот примерно с тридцатилетнего возраста вдруг как-то резко и стремительно всё больше начал переставать мочь. А вынужденное перестроение на новый режим происходит болезненно – ты хреначишь, как раньше, не заботишься о здоровье, путаешь день с ночью, и вдруг тебя просто вырубает, и ты лежишь вот такой тупой кусок мяса со слипающимися глазами и стекловатой вместо мозга. А ещё и смрад стоит по всей квартире, как будто и не смрад, а инфернальная вонь, как будто кроме тебя в квартире ещё кто-то присутствует и за всем наблюдает – сейчас-то я догадываюсь, кто меня затянул во весь этот ужас.
– Стекловата – это к Аркаше. – подошёл Головакин к обозначенному Аркаше, который испуганно закинул себе в пасть весь кулёк семечек, не желая ни с кем делиться, и изумлённо затрепыхал. – Аркаша у нас всю жизнь потратил, добиваясь у себя в голове стерильной пустоты. И ведь добился-таки, можете его поздравить.
Аркаша сообразил, что сейчас его бить не будут, и взирал на создавшуюся ситуацию несколько плутовато и надменно. Впрочем, надменность эта имела вид человека, когда-то окунувшегося с головой в аллегорическую литературу, а ныне собирающего чинарики по подъездам.
– Расскажи, что ты за фортеля выкидывал, прежде чем сюда попасть?.. Представляете, Евпсихий Алексеевич, он умудрился сигареты из трёх пачек у себя во рту разместить, вкурить в себя всё это дело, а затем подняться на метр над землёй и повиснуть в воздухе наподобие энергумена. Два дня висел, ни один поп из окрестных церквей ничего сделать не мог, а здешние санитары справились.
Аркаша не без удовольствия усмехнулся.
– Как хоть это у тебя получилось?.. Что ты там ещё у себя в мозгах выскоблил предварительно, чтоб этакий триумф воли начудить?
– Думать надо меньше, и даже не посягать на то, чтобы думать о том, что тебе без пользы. – избегая эмоциональных обертонов проговорил Аркаша. – Вот водка и курение – это польза, тут есть всегда о чём подумать.
– Ну это, братец, пропаганда нездорового образа жизни – что-то вроде того.
– Пропаганда… – с издевательским сочувствием посмотрел Аркаша на Головакина. – Курение тренирует работу лёгочной мышцы, а водка очищает головной мозг от старых нейронов – это факт. Я чего только не пил и не курил, а если всё перечислять – столько всего необычного нагромоздится, да ещё экой-нибудь архитектурой в георгианском стиле, что изумлению конца не будет, а это уже плохо. Я только сушёный папоротник с вербеной не курил – а так даже на конский навоз посягал.
– Лишь бы на пользу, как говорится, лишь бы ребёнок не плакал. – Головакин поощрил мыслительный отдых Аркаши компанейским подзатыльничком. – А вот у нас от Семёна Семёныча пользы явно никакой. Посмотрите-ка на него – разве это состояние анабиоза достойно прозываться человеком?
Семён Семёныч несомненно соображал, насколько непотребен его внешний вид, но почему-то решил презреть все тяготы стыдливости.
– Что такое? – угрюмо зыркнул он на Головакина.
– Валяешься подобно неприкрытому куску дерьма. Другой бы кто постеснялся.
– Я перед кем угодно могу в неглиже присутствовать, поскольку я имею характер независимый! – одышливо выкобениваясь сообщил Семён Семёныч. – Я и перед Верховным Главнокомандующим на параде в пьяном виде без штанов маршировал, и мною все были довольны, между прочим!..
– Как же это ты в столь вопиющем состоянии воинскую честь отдавал?..
– В армии не честь отдают, а выполняют воинское приветствие. Честь только пьяная девка в кустах отдаёт, потому на неё воинский устав и не распространяется. А я себя ценю именно как носителя высших знаний, касающихся оборонительного характера, и никогда себя врагу в обиду не давал. Для меня начальник – это тот, кто способен начальствовать в моих интересах и интересах государственности, отправляя всё личное побоку. Я когда правду-матку рублю – вся нечисть вокруг присаживается на бутылку. Если бы я жил в сверхразвитом обществе, то занял бы министерскую должность и трудился всем на благо. Но так как судьба закинула в это дерьмо, то приходится регулярно разъяснять простые космические законы, понятные на генетическом уровне даже для животных. Да ещё приходится выслушивать всякие россказни да воспоминания от всяких быдлорашенцев, как они страну просирали. Ничего, я вот скоро отправлюсь в райские кущи, и забуду про всех вас, как про кошмарный сон.
– Чего это ты вдруг в райские кущи отправишься? – хмуро справился Головакин.
– Потому что у меня 70% гангрены в организме накоплено, и они не прекращают мучительных страданий не на единый миг. А разве подобные страдания не сотворят святошу из любого заурядного грешника?.. Да сотворят!.. Вам же не понять, как мне больно и отчаянно жутко, вы всего лишь пресловутые эгоисты. Ещё и сплю плохо вдобавок ко всему. Не высыпаюсь.
– Ты не один такой, мы тут все не высыпаемся, тут тупо кровати не правильные. – сочувственно забормотал Толик, для наглядности подпрыгнув костистым задком пару раз на собственной кровати. – Кровать должна быть ровной и однородной: желательно жёсткой, можно чуть мягче. Я дома измучился спать на раскладном диване, у которого одна часть жёсткая, а другая часть мягкая. Просто вот спишь и не понимаешь: почему тут должно быть мягко, а тут жёстко, и какие цели преследовали конструкторы дивана?.. А очень скоро спина разболелась – хоть вой. Я скоро плюнул и тупо начал спать на полу, даже несмотря на сквозняки. На полу у меня получалось иногда высыпаться за шесть или семь часов сна, и ничего не болело, спина стала как новенькая. Ты попробуй, ляг на пол.
– Попробую. – с неожиданной лёгкостью Семён Семёныч сполз с кровати на пол, пребывая в той же самой срамновато-вальяжной позе.
– Ну как? – спросил Головакин.
– Разберусь. Пока привыкаю.
– А я вот с детских лет не имел возможности хорошенько выспаться. – пожаловался Аркаша, несколько ревниво наблюдая, как всё внимание приятелей приковано к малоумию Семёна Семёныча. – Хочу проснуться вовремя – где-то в семь утра, а мамка будит в шесть: вставай надо смотреть за младшим братом!.. Иду спать рано – допустим в восемь вечера, а мамка кричит: не спи пока, надо присмотреть за братом!.. Я говорю: мама, я хочу поспать. Она мне: я тоже хочу, но я устала смотреть, так что теперь ты смотри!.. И вот так год за годом, всё детство, утром и вечером я смотрю за младшим братом, чтоб с ним чего не случилось. И вот восемь лет прошло, я наконец-то с чистой совестью иду спать рано – допустим, часов в шесть с четвертью, или даже в половине седьмого, не важно – и угадайте что от меня требует мамка?.. Мне уже не надо следить за братом, но зато надо следить за сестрой, потому что у меня сестра родилась!!
– Вот тебе раз!! – гоготнул Семён Семёныч.
– Вляпался. – посочувствовал Головакин.
– Так пускай бы теперь младший брат за сестрой следил, если он вырос. – попробовал придумать выход из положения Евпсихий Алексеевич.
– Нет, брат хитрый оказался, брат помер. – вздохнул Аркаша. –Тромбофлебиты подвели.
– Мда. – озадачился Евпсихий Алексеевич.
«Со мной-то что? вы про меня не забыли, Евпсихий Алексеевич? – с размашистой тревогой застучался голос Анны Ильиничны, вынуждая Евпсихия Алексеевича невольно и аффектировано дёрнуть головой. – Мне так тяжело смотреть на этих спившихся людей, так неприятно видеть, что они не осознают всей глубины своего падения, и даже отчасти хвастаются пьяными подвигами, с параноидальной тщательностью готовы о них рассказывать. А ещё у этих людей имеются отцы с матерями – им-то каково взирать на печальные судьбы отпрысков?.. Представляете, Евпсихий Алексеевич, а ведь и я могла бы матерью быть, и родить вот этакого пьянчужку – и какого бы мне было?..»

