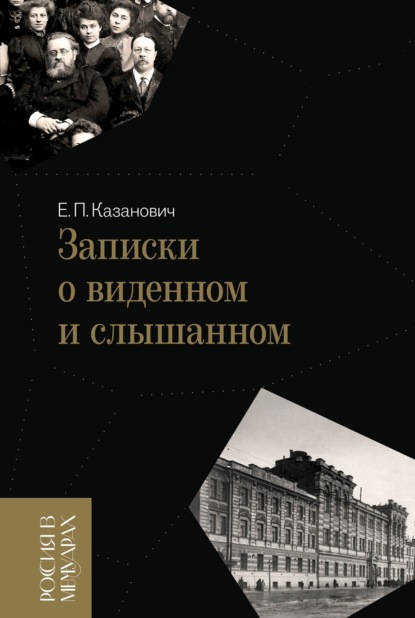
Полная версия:
Записки о виденном и слышанном
Так-то оно так, да только…!
Мы сидели после обеда в столовой – кабинете; я просматривала «Речь», а А. С. вертел в руках разные номера журналов.
– Ну что ж, пишете вы драму? – спросил он вдруг.
Я ответила отрицательно.
– Напрасно, напрасно, надо пробовать, а там оно само пойдет на лад, я дам вам много сюжетов и типов, если захотите; у меня есть даже целые наброски сцен, – повторил А. С. то, что говорил уже на пароходе, и вышел в соседнюю комнату, из которой через несколько минут вернулся, держа в руках пачку бумаг, лежащих в белом листе.
Я подумала, что это и есть «сюжеты», и обрадовалась, т. к. сама пока не решалась просить сообщить их мне, но каково же было мое изумление, когда А. С. пробормотал краснея:
– Вот вы говорили, что даже Нестор Александрович принимался за драмы (NB. Я как-то к случаю упомянула, что Нестор Александрович, – к которому, между прочим, Пругавин относится с большой симпатией и уважением, граничащим почти с восхищением, – рассказывал о своем влечении в молодости к карьере драматурга и о том, что занятие его наукой вышло отчасти случайным), ну так нам и тем более можно…
Вид у А. С. был при этом страшно сконфуженный и неуверенный. Видно, ему и хотелось прочесть, и было ужасно неловко, и старался он скрыть свое смущение.
Мне хорошо знакомо это состояние; оно очень мучительно, и я невольно страдала в эту минуту за А. С., готовая лучше отказаться от слушанья его пьесы, чем дальше выносить его мучительное смущение. Но, конечно, я могла только сидеть и молча ожидать, что я и делала.
А. С. тем временем опустился на стул, развернул оберточный белый лист, внутри которого лежали четвертушки бумаги, аккуратно исписанные с одной стороны его аккуратным, несколько женственным почерком, и забормотал в свое оправдание:
– Это вот так… ерунда… Мне хотелось нарисовать две картины из знакомого мне быта… только это еще не окончено… Вот другая у меня есть пятиактная пьеса, ту я давно начал, но та действительно секрет, я об ней еще никому и не говорил… а это – пустяки… наброски…
А. С. смущенно вертел в руках листки, улыбался и краснел. Да, седой старик краснел передо мной, и я никому не желала бы быть в эту минуту на моем месте! Когда признанный писатель-старик читает вслух свое произведение, это чтение для него триумф, но тут… точно старик сделал какую-то детскую глупость, шалость и сам стыдится ее.
Я молчала как убитая, но вид делала самый готовый к слушанью. Что ж могла я сделать больше, чтобы облегчить положение старика? И во все продолжение чтения старалась ничем не показать своего отношения к читаемому. Конечно, чтобы показать свое внимание и интерес, я предлагала кой-какие вопросы, и они, насколько я могла заметить, помогли А. С. приступить к чтению.
Теперь я могу сказать, что вряд ли возьмут эту пьесу: она не представляет ни в каком отношении никакого интереса и годна разве только для литературных приложений «Нивы»138…
Пьеса в двух актах и почти вся написана, за исключением маленьких пропусков.
Оба действия происходят в Москве. Две курсистки, одна – княжна, а другая – дочь золотопромышленника, хлопочут о вечере в пользу курсов; но так как один вечер необходимой суммы не даст, они решают просить известного литератора Вьюгина прочесть ряд публичных лекций, в уверенности, что они дадут необходимую сумму даже с избытком, т. к. Вьюгин (sic! вьюга, пурга, Пругавин…), автор сочинения «Религиозные искатели»139 (NB), пользуется большой популярностью в большой публике. Тетушке своей они объясняют, захлебываясь от восторга, что Вьюгин открыл целую новую область человеческого духа, новую форму жизни, существующую среди части людей и нам до той поры неведомую. Действие кончается тем, что они едут на автомобиле приглашать Вьюгина.
Второе – меблированные комнаты, и в одной из них Вьюгин. Он пока один и мечтает сесть сейчас за работу, о которой с жаром произносит длинные монологи. Но не успевает он еще расположиться, как начинают поминутно приходить то прачка со счетом, то требование от хозяйки денег за квартиру, то студенты с пригласительным почетным билетом на благотворительный вечер, но у него – ни гроша. За минуту перед студентами появляется его бывший приятель, ныне фельетонист «Нового времени» («типа Амфитеатрова, Дорошевича, Меньшикова и пр.», как пояснил устно А. С.), выручает его в денежном отношении, возвращая ему якобы забытый долг, и затем между ними происходит принципиальный разговор, в котором Вьюгин (= Пругавин) раскрывает перед публикой свои демократические взгляды и симпатии. Наконец, стучатся вышеобозначенные курсистки, «ваши читательницы и почитательницы», как рекомендуются они Вьюгину.
Сцена кончается тем, что они уходят, а за ними посыльный приносит Вьюгину роскошный букет цветов «от неизвестных» и не берет с него на чай, потому что «не приказано, и все, что следует, уже получено» (если это написано недавно, то не сыграл ли тут роли букет, привезенный мной А. С. на прошлой неделе?). Такова эта пьеса.
Как видно – ни завязки, ни развязки в ней нет, просто две картины. Что касается языка – то он довольно живой и гладкий, но ведь этого слишком недостаточно; кроме того, он слишком банален, слишком неиндивидуален и бесцветен; ни интересных образов, ни удачных сравнений, ни живых типов, ни новых мыслей. Мне кажется, что в фигуре Вьюгина много личного, много неосуществленных надежд и тайных мечтаний автора…
Горе нам всем, таким неосуществившимся мечтателям!..
Сегодня я собой довольна: не болтала ничего лишнего и держала себя просто и хорошо (хотя я ведь всегда лицемерю, и простота моя лицемерная). Наступил черед А. С. делать признания вроде моих.
А от всяческих разговоров о религии, от высказывания своего мнения в этой области, кроме того, что освободительное движение должно идти в связи с религиозным (не у Данилова ли взял он эту мысль?), А. С. уклоняется, я это замечала не раз и прежде, и когда сегодня зашел разговор о некоторых семьях, где дети воспитываются вне всяких религиозных понятий, и я спросила по этому поводу его мнение – А. С. уклончиво ответил, что это уж область педагогики. Верно, Маша действительно права, когда предполагала, что А. С. сам не знает, верит он или нет, но верить хочет.
Когда я приехала, А. С. спал, и я, не будя его, отправилась в лес, на что он после попенял мне.
Вернувшись, я застала его уже вставшим, и А. С. сейчас же рассказал, что у него был Чайковский и опять обещал приехать (что он сообщил мне еще в письме), и сейчас же достал из кармана письмо Николая Васильевича, прочел большую часть его и сказал:
– Бедняга Николай Васильевич! Из письма я заключаю, что его душевное состояние не особенно хорошо. Он тоскует, потому что чувствует себя совершенно выбитым из русской жизни, не находит себе в ней живого дела. Сейчас он работает, и очень много, в вольно-экономических комитетах по голоду140, но это его не удовлетворяет. Ведь в семидесятых годах он сам создавал жизнь и движение в обществе, а теперь…
Кроме грустных размышлений по этому поводу Чайковский сообщал в письме Пругавину, что, следуя его совету, решил писать свои воспоминания141.
16/VII. Преоригиальная вещь «Любовная лирика XVIII в.» Веселовского (сына)142! Мне она чем-то напоминает произведения А. Ремизова, и кажется, что в психологиях обоих авторов есть что-то тождественное; тоже своего рода импрессионистическая манера писания. Автор спокойно, почти машинально записывал тот поток мыслей, который струился в тиши его одиноких размышлений, и вовсе не думал при этом, как отнесутся к нему другие, которым попадут в руки его записки. При этом книга вполне научная и талантливая.
А Maupassant’а «Sur l’eau»143 хорошо! Окончено только немного чересчур по-французски: несколько анекдотов, несколько сплетен, несколько bonts mots144. Впрочем, и пессимизм начала довольно французский: пессимизм легкий, распространяющийся огулом на все, раз уж подошла такая линия (это, может быть, и по-русски: «коль рубить – так уж сплеча»145?), пессимизм настроения, не идущий дальше Grübeleien146 и будирования; но есть места блестящие по наблюдательности и остроумию отрицания.
Так, остроумные рассуждения в Канне о характере ее общества и характере знаменитостей, привлекаемых хозяйками салонов для украшения своих вечеров и угощения ими гостей (то же у Толстого в «Войне и мире»). Были бы трагичны, если бы не возникали под влиянием минуты, рассуждения о том, что человек всегда и во всем заключен в темницу собственного «я», которое только одно и видит всегда перед собою, хотя и мнит якобы об общении с внешним миром; о бесконечном верчении мысли человеческой в беличьем колесе своего мозга как в науке, так и в искусстве; об избитости и повторности и самой природы в ее произведениях; о глупости человечества, его инертности и пр. и пр.
Прелестны по своей поэтичности и тонко психологичны рассуждения о луне, о ее действии на нас при разных обстоятельствах, и замечательно удачно подобраны иллюстрирующие их поэтические отрывки. А заключение – «La tendresse, que nous lui donnons est mêlée aussi de pitié; nous la plaignons comme une vieille fille, car nous devinons vaguement, malgré les poètes, que ce n’est point une morte, mais une vierge» (101), и «Et c’est pour cela qu’elle nous emplit, avec sa clarté timide, d’espoirs irréalisables et de désirs inaccessibles»147 (102) – верх красоты, изящества и грустного остроумия. Эта глава – chef d’oeuvre148! Жаль только, что конец подпортил149.
Но слава Богу, мы уж ничего не берем теперь от французов и расплачиваемся с ними за прежние литературные долги. Так Достоевский (отчасти Тургенев и Толстой) вернул им то, что когда-то взял у них Сумароков, Екатерина, Карамзин и др. Бурже весь им (Достоевским) пропитан («Le disciple», «L’étape»150), а о других не знаю пока, но довольно на первый случай и этого!
19/VII. Как все-таки долго держатся в человеке не столько старые взгляды, сколько старые вкусы, старые чувства. Кажется, уже расстался человек с ними, перестал находить приятное и красивое в том, что прежде считал верхом красоты и приятности, а вот нет-нет, гляди, и прорвется при удобном случае старое!
Я сегодня взяла билет I класса на пароходе и села на вышке. Хорошо было, не особенно ветрено, и жаль было париться под душным колпаком II класса. Через несколько минут поднялся туда же какой-то офицер, с большими полуседыми усами с подусниками, какие носил Вильгельм I, кажется, и Александр II. Вид у него был очень бравый, какой бывает у молодцов-полковников или кутил-ротмистров провинциальных полков, но манеры довольно сдержанные, человека столичного, сквозь которые иногда пробивалось все-таки внутреннее профессиональное молодечество.
Он подсел к сидевшему здесь уже раньше молодому офицеру и начал с ним заговаривать (видно было, что он с ним раньше знаком не был), расспрашивал о встречающихся на берегу фабриках и заводах и высказывал собственные соображения на их счет, чем, вероятно, мешал соседу, в десятый раз принимавшемуся за газету, но не смевшему показать протест старшему по чину.
Рядом со мной сидел штатский, господин лет 40, с которым мы иногда тоже обменивались замечаниями, потом к нам подсел и бравый полковник.
Он ехал прокатиться, что можно было заключить из того, что он поминутно спрашивал у капитана и контролеров, где ему сойти, чтобы, не долго ожидая, попасть на обратный пароход. Нетрудно было заметить, что офицер не умен (боюсь сказать «глуп», чтобы не быть обвиненной в пристрастии, но на самом деле так оно и было) и никакого интереса для меня представить не может, но был добродушен, и поэтому мы с ним понемногу разговорились, причем он все старался разузнать что-нибудь обо мне, предлагая соответствующие вопросы, а я всячески уклонялась от прямых ответов, направляя разговор в сторону от своей особы, чем только больше возбуждала его любопытство.
Перед колонией я встала, сказав, что уже приехала к цели, издали поклонилась, не подавая руки, офицеру и штатскому, и пошла вниз. Сойдя на пристань, я оглянулась. Офицер широко снял фуражку и махнул ею несколько раз в воздухе; то же сделал и штатский, а их примеру последовал и молодой поручик.
И вот тут-то, при виде этого широкого, красивого жеста и приветливо улыбающихся физиономий уезжающих, – что-то старое шевельнулось в душе. Так сколько раз провожали меня когда-то военные, тем же жестом прощались со мной, долго стоя на удалявшейся телеге или на подножке поезда, когда уезжали из Заборья или Могилева, так же широко махали фуражкой до тех пор, пока их или моя фигура не скрывались из виду…
Мек…, Пещ…, Мен…, Ник…, Кар… и мн. др. … Лагери, танцовальные вечера и отъезд… Давно было все это; кажется, в каком-то далеком-далеком сне… Полузабытая атмосфера балов, кавалькад, «полуслов, полупризнаний»151 …
Молода я тогда была, вот что152!..
В ответ на прощальные приветствия сегодняшних спутников я два-три раза кивнула головой, махнула рукой и быстро пошла наверх, где меня встретили добродушным пожатием руки знакомые колонисты и дачницы…
Пароход все еще возился у пристани, и мимолетные знакомцы мои все еще стояли, вероятно, наверху, провожая меня глазами, но я не оглядывалась. Чего-то сделалось жаль!.. Конечно, молодости и сравнительной беззаботности…
Это мой разговор с Софьей Петровной [Петрашкевич], которой я только что перед тем рассказала две-три странички из моего прошлого, подогрел мои чувства, иначе я, наверное, и не разговорилась бы с полковником, найдя его глупым и пошлым, и уж, конечно, не расчувствовалась бы из‑за того, что он красиво снял фуражку и по привычке два раза махнул ею в воздухе…
А только что перед этим я с большим интересом разговаривала с некрасивым, неизящным, не имеющим никаких манер и не знающим тонкости обхождения с дамами простолюдином. Трезвенником.
Дело было так. Я потащила Софью Петровну проводить меня на пристань, но т. к. пароход опять ушел у меня из-под носа, – я предложила посидеть в Летнем саду и почитать что-нибудь. Но Софья Петровна захотела осмотреть дворец Петра Великого153, на что я охотно согласилась.
Когда мы рассматривали висящие там картины и высказывали свои замечания по поводу их содержаний и исполнения, – сторож-солдат, показывавший нам дворец, слушал нас с большим интересом, давал свои собственные объяснения и приводил в подтверждение их целые рассказы и даже цитаты из Библии и Евангелия.
Между прочим, он так объяснил центральную фигуру в резной дубовой раме, собственноручно сделанной, как говорят, Петром для полученных в подарок от какого-то короля – не то английского, не то немецкого – часов, барометра и компаса154.
Вся рама расположена по форме треугольника, образованного этими тремя предметами, а в середине между ними сидит на завязанном мешке рельефная мужская фигура с крыльями за плечами и крестом перед собой. Одна рука ее высоко лежит на кресте и как бы подымается с ним вместе вверх, другая – на мешке и как бы указывает вниз.
Солдат объяснил мысль Петра так: если пойдешь за крестом, будут у тебя крылья и полетишь на небо; если потянешься за мешком с деньгами – останешься на земле и, может быть, даже в аду. Объяснение в своем роде довольно остроумное.
Я заметила, что он, верно, много читал Святое Писание, на что солдат ответил, что он трезвенник и посещает беседы братца Иванушки155…
20/VII. и вот тут я могла воочию убедиться, насколько сильно влияние этого человека.
Я уже встретилась однажды с одной трезвенницей у Пругавина, но та меня мало заинтересовала, так как у женщин такие явления вообще более обычны и менее интересны, благодаря своей романтически-сенсуальной подкладке и экзальтированной подчиняемости разным духовникам и проповедникам вообще; среди мужчин же такие случаи попадаются реже и вызываются какими-нибудь исключительными обстоятельствами.
В большинстве случаев такими обстоятельствами являются горе, нужда, неудовлетворенность своим социальным и материальным положением, а иногда и чисто духовные и душевные искания добра и правды.
Я удивляюсь малой сообразительности правительства, которое, при своей политике настоящего момента, препятствует развитию подобных обществ и стремлений, являющихся, во всяком случае, скорее твердым оплотом его деятельности, нежели чем-нибудь вредоносным, а во-вторых, значительно уменьшающих ряды уже безусловно антиправительственных революционных элементов, т. к. не попади все эти десятки тысяч к братцу Иванушке и им подобным – они несомненно при первом же удобном случае пошли бы с дубьями и кольями против всего и всех, без всяких определенных целей и принципа, просто в силу ненормальности своего общественного положения, в силу потребности излить в чем-нибудь свое недовольство жизнью.
Трезвенник, например, о котором я говорю, состоит на службе Его Величества в качестве сторожа при дворце Петра Великого в Летнем саду, и на мой вопрос, как он примиряет свою службу царю со своим основным положением: все люди – братья, и когда придет Христос, тогда превратятся мечи в сохи, – он ответил: «Так что ж из этого: Иисус Христос вовсе не пришел нарушить власть, и такой-то (имярек из Писания) тоже состоял на царской службе», – а на вопрос Софьи Петровны, как он поступит в том случае, если его пошлют на войну и заставят убивать, – солдат не задумываясь ответил: «И пойду, потому что сказано: без воли Божьей не упадет волос с головы человека, значит, и война и все делается с Его ведома и согласия».
Я не стала распространяться на тему о противоречивости такого взгляда, т. к. мне не это было важно; не говорила также и о том, как далеко можно закатиться, став на эту плоскость. Я не революционерка в душе и по характеру и не стою за то, чтобы бесцельно ломать чужие убеждения, а в данном случае это и было бы с моей стороны совершенно бесцельным разрушением веры человека, которую он обрел с таким трудом и которую я сама ничем для него заменить не могу. Вот если бы я задалась целью заняться им, развить и направить его ум в другую строну и там показать ему свет – дело было бы иное, но я этого, конечно, делать не стану; я не скажу ему: твой дом ветх и гнил, сломай его, а я дам тебе другой, так какое же имею я право лишать его этого единственного приюта от житейской бури и непогоды ночи? Да, наконец, из‑за того, что несколько тысяч человек откажется идти на войну, она не исчезнет и, в общем, прибавится только на эти несколько тысяч лишних жертв. Идти же с проповедью братства и мира по городам и весям – я не пойду. Может быть, это и плохо, но я знаю, что все равно не пойду, а в таком случае я не смею походя разрушать счастье человеческой жизни, не преследуя при этом никакой определенной высшей цели, которая была бы в то же время целью моей собственной жизни и деятельности. Мне интересно было ознакомиться с психологией этого человека, и здесь я отчасти достигла цели. Как встреченная мною у Пругавина трезвенница, так и этот – охотно рассказывал о своем обращении и о том переломе, какой произвел братец Иванушка в его жизни.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Не исключено, что именно образ М. Н. Ермоловой в роли Евлалии Андреевны Стыровой (Малый театр, 1883 г.), а не св. великомученицы Евлалии Барселонской подтолкнул родителей к нетривиальному выбору имени.
2
Изучение математики было необходимо для последующего поступления на архитектурное отделение Академии художеств – замысел, не получивший развития.
3
См. копии заявлений и прилагаемых рекомендаций: ОР РНБ. Ф. 326. № 11. Л. 1–36.
4
См. копии заявлений и прилагаемых характеристик: Там же. № 13. Л. 1–33.
5
Опубликованы в изд.: Орлова Н. Х. Дневник одного живого существа: из жизни бестужевки. СПб., 2018. С. 53–150.
6
Самые продолжительные перерывы: с 3 мая по 20 ноября 1911 г. и с 22 января 1918 г. по 2 августа 1919 г.
7
ОР РНБ. Ф. 326. № 17–20; всего около 650 исписанных с обеих сторон листов.
8
См.: Орлова Н. Х. Указ. соч. С. 65. Запись от 10 февраля 1906 г.
9
Измайлов Н. В. Воспоминания о Пушкинском Доме. 1918–1928 гг. / Публ. и коммент. Н. А. Прозоровой // Пушкинист Н. В. Измайлов в Петербурге и Оренбурге / Сост. А. Г. Прокофьева и С. А. Фомичев. Калуга, 2008. С. 19.
10
Орлова Н. Х. Указ. соч. С. 127. Отметим попутно, что именно преувеличенная полнота и неуклюжесть выступили в качестве визуального воплощения уродства аксаковского «чудища» в классических иллюстрациях художника Н. А. Богатова (1880‑е гг.), а также в балете на музыку Ф. Гартмана в сценографии К. А. Коровина (премьера 16 декабря 1907 г.); оба эти источника могли быть известны Казанович.
11
См. наброски повести: ОР РНБ. Ф. 326. № 88. 58 л.
1
Слова Пимена из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1831), сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».
2
В начале тетради следы нескольких изъятых блоков и вырезанных страниц; на оставшихся страницах нумерация начинается со 101. Заглавие, подзаголовок и эпиграф написаны на обороте верхней крышки тетрадной обложки.
3
Правильно: Auch ich war in Arkadien geboren! (нем.) – И я в Аркадии родился! Строка из стихотворения Ф. Шиллера «Отречение», употребляется в значении: И мне не чужды поэтические настроения, любовь к прекрасному, и я был счастлив.
4
Об увлечении Казанович философией в первые годы после поступления на ВЖК, в том числе о проекте создания Философского института, см.: Дневник одного живого существа. С. 53–166.
5
Имеется в виду Жан-Жак Руссо и его «Исповедь» («Confessions»; написана в 1765–1770 гг., впервые опубликована в 1782 г.).
6
Казанович была знакома с С. Е. Маловым уже несколько лет: в ее поэтической тетради записано стихотворение, позднейшая карандашная помета на котором указывает, что оно посвящено «С. Е. М–ву» (ЕПК. Стихотворения. № 89. 17 августа 1908 г. С. 91–92); судя по содержанию (рассуждениям о невозможности искренней дружбы), Казанович уже тогда скептически относилась к ухаживаниям Малова. Фотография Малова с атрибутивной пометой Казанович: ОР РНБ. Ф. 326. № 396. В личном фонде Малова, переданном после его смерти его вдовой А. М. Маловой в Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (Ф. 1079), материалов, содержащих упоминания Казанович, не обнаружено.
7
Московский Художественный театр выступал в Петербурге с гастролями на сцене Михайловского театра с 11 апреля по 15 мая 1911 г. В воскресенье, 1 мая, шел спектакль «Братья Карамазовы: отрывки из романа Ф. М. Достоевского» (постановка В. И. Немировича-Данченко и В. В. Лужского; премьера 12 и 13 октября 1910 г.), в двух частях: первая утром (начало в 12.30), вторая вечером (начало в 20.00); в спектакле участвовали артисты Л. М. Леонидов (Митя), В. И. Качалов (Иван), В. В. Готовцев (Алеша), В. В. Лужский (Федор Павлович Карамазов), С. Н. Воронов (Смердяков), О. В. Гзовская (Катерина Ивановна), И. М. Москвин (Снегирев) и др.
8
после события; впоследствии (лат.).
9
Бельгийский скрипач Эжен Изаи выступал в России в сезоне 1910–1911 гг.: с октября в Москве, затем в ноябре в Петербурге. См.: История русской музыки. М., 2011. Т. 10в. Кн. 1. С. 847–852.
10
Отрывочные сведения, которые удалось обнаружить о брате Вениамине, позволяют предположить, что он был человеком авантюрного склада и имел знакомства в артистических кругах.
11
Выпускница ВЖК Елизавета Александровна Дьяконова с 11 лет вела дневник; подготовленная ее братом посмертная публикация (в журнале «Всемирный вестник» и отд. изд.: Дьяконова Е. А. Дневник. СПб., 1905. 3 т.) стала заметным событием. Дневник многократно переиздавался.
12
Казанович обыгрывает заглавие автобиографической книги И. В. Гете «Поэзия и правда» («Dichtung und Wahrheit», 1831; пер. на русский язык: Пб.; М., 1923). Через 9 дней она написала рассказ, которому дала название «Wahrheit und Dichtung».



