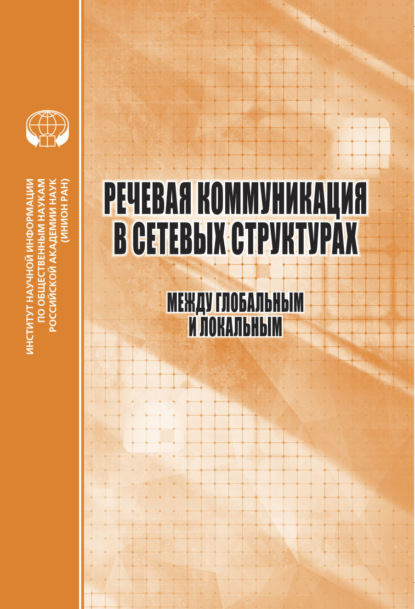
Полная версия:
Речевая коммуникация в сетевых структурах. Между глобальным и локальным

Речевая коммуникация в сетевых структурах: между глобальным и локальным
(cборник научных трудов)
© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2022
* * *Последствия воздействия интернет-коммуникации на интернет-пользователей
Р.К. Потапова*, В.В. Потапов**
Аддитивная трансформация личностив эпоху цифровой коммуникации[1]
*Московский государственный лингвистический университет,
Москва, Россия, rkpotapova@yandex.ru
**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия, volikpotapov@gmail.com
УДК: 81
DOI: 10.31249/rech/2022.00.01
Аннотация. Статья посвящена обсуждению ряда актуальных проблем, охватывающих особенности каузальной связи между валеологическими ценностями молодого поколения интернет-пользователей и факторами интернет-влияния на когнитивные, нейрофизиологические и психофизиологические изменения показателей функционального состояния мозга. При этом затрагиваются различные аспекты связи интернет-коммуникации с восприятием цифровых средств передачи информации. Рассматривается феномен нехимической зависимости (аддикции) молодого поколения интернет-пользователей. Современная интернет-коммуникация рассматривается нами по аналогии с ломбард-эффектом как поликодовый «шум», влияющий на изменение когнитивных, нейрофизиологических и психофизиологических показателей параметров состояния человека. Формулируется гипотеза «вербальной деградации» юных интернет-пользователей, ведущей к оскудению словарного запаса русского языка и упрощению синтактико-семантических конструкций, постепенному частичному переходу от синтетизма русского языка к аналитизму, своего рода возврат к передаче информации с помощью рисунков, условных знаков и т. д. Затронутые в статье проблемы и их обсуждение помогают «высветить» реперные точки влияния интернет-коммуникации на здоровье и картину мира молодого поколения.
Исследования особенностей процесса интернет-коммуникации проводились в течение длительного временнóго периода и ранее. Однако именно в последнее время обрела особую актуальность проблема изучения эффекта воздействия современной цифровой информационно-коммуникационной среды Интернета на когнитивные и нейрофизиологические характеристики пользователей этой среды. Данная проблема приобрела особое значение в связи с лавинообразным ростом различных видов подобного воздействия, что, как свидетельствуют многочисленные факты, приводит к неконтролируемым отрицательным последствиям применительно к когнитивному и нейрофизиологическому профайлингу пользователей Интернета. В данном случае представлен валеологический аспект современного состояния интернет-социума [Поликодовая среда …, 2020]. При этом специфика данного воздействия связана прежде всего с восприятием поликодового интернет-контента, что обусловливает необходимость применения в исследовании междисциплинарных методов и подходов.
Валеологическое направление в науке в настоящее время охватывает различные области, включающие интегрированные знания о здоровье человека, механизмах его формирования, сохранения и укрепления. С этой точки зрения валеология (лат. valio > valere – быть, становиться здоровым) рассматривается как наука об интегральном здоровье человека, генетических и физиологических свойствах его организма, обеспечивающих устойчивость физического, биологического, психологического и социокультурного развития [Тюмасева, Богданов, Щербак, 2004].
В последнее десятилетие нейрофизиологические исследования, базирующиеся на новых аппаратно-программных технологиях (в особенности благодаря успешному использованию позитронно-эмисионной томографии ПЭТ и функциональных магнитно-резонансных томографов фМРТ), предоставили возможность получить новые данные об организации целостной деятельности мозга, которые позволили существенно расширить представление о процессе языковой и речевой коммуникации (в понимании языка как системы и речи как узуса составляющих этой системы) [Потапов, 2019; Потапов, Прейсг, Сжерпс, 2020; Междисциплинарность в исследовании речевой полиинформативности, 2015; Potapova, Potapov, 2020]. К числу наиболее интересных нейрофизиологических находок обычно относят дефолтную, зеркальную и корковую системы мозга [Лебедева, Буркитбаев, Каримова, 2020; Комплексное исследование изменения функционального состояния человека при восприятии медиаконтента разной модальности, 2021; EEG investigation of brain bioelectrical activity (regarding perception of multimodal polycode Internet discourse), 2019; The influence of multimodal polycode Internet content on human brain activity, 2020 b; Media content vs nature stimuli influence on human brain activity, 2021]. Дефолтная система расценивается при этом как альтернативная система мышления, направленная на анализ эндогенной информации. В настоящее время мозг предлагается рассматривать «не как коннектом – нейронную сеть, а как когнитом (курсив наш. – Р.П., В.П.) – нейронную гиперсеть, состоящую из нейронных групп со специфическими когнитивными свойствами. Структура когнитома тождественна структуре разума, а сознание представляет собой специфический процесс широкомасштабной интеграции когнитивных элементов в этой нейронной гиперсети» [Анохин, 2021, с. 39].
К исследованиям, имеющим огромное значение для решения валеологических проблем применительно к молодежному контингенту, следует отнести изучение процесса воздействия и последствий этого воздействия со стороны Интернета на трансформацию психофизиологических и когнитивных характеристик личности пользователей Интернета применительно к фактору сформированной нехимической зависимости (аддикции). Аддикция в широком смысле этого термина и аддиктивность (как химическая, так и нехимическая) проявляются в стремлении ухода личности от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством либо приема психоактивных веществ, либо фиксации внимания на отдельных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций. Девиантное поведение проявляется, как правило, в агрессивной или аутоагрессивной форме в виде зависимости от сверхценных психологических и психопатологических увлечений (в частности, в форме интернет-зависимости, фанатизме и др.), коммуникативных девиаций (например, аутистическом поведении), безнравственном и аморальном поведении, девиациях в стиле поведения и т. д. [Клиническая психология, 2007].
Вышеуказанный вид нехимической зависимости (аддикции) в настоящее время является одним из приоритетных направлений изучения в психологии, патопсихологии, психиатрии и прикладной лингвистике (например, применительно к составлению тестов, необходимых для обнаружения различных видов аддикции). Патологическая зависимость (аддикция) от Интернета в целом и интернет-игр[2] в частности, сформировала за последние десятилетия новый вид «цифровой личности», характеризующейся, например, такими индивидуальными качествами, как десоциализация, деиндивидуализация и дегуманизация. Психическое расстройство, констатируемое ранее как гемблинг-зависимость (игровая зависимость, связанная с азартными играми), получило новую аттрибутику как «игровое расстройство» в значении «расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ или аддиктивным поведением» [Когнитивные нарушения у пациентов с патологическим влечением к азартным играм, 2020; Эмоциональные и когнитивные нарушения в структуре наркологических заболеваний: взаимовлияние и взаимосвязь, 2014; Междисциплинарность в исследовании речевой полиинформативности, 2015; Influence of the aggressive Internet environment on cognitive personality disorders (in relation to the Russian young generation of users), 2021].
Расстройства, вызванные аддиктивным поведением (в их онлайн- и офлайн- формах), определяются как «узнаваемые и клинически значимые синдромы, связанные с дистрессом или нарушением функционирования индивида, формирующиеся в результате повторяющегося подкрепляющего поведения, а не употреблением химических веществ, вызывающих зависимость» [World Health Organization, 2018]. Таким образом, в данном случае речь идет о ситуациях, когда у тех или иных лиц сформирована зависимость от различных форм взаимодействия с Интернетом. В настоящее время доказано наличие аддиктивного «расщепления личности» у лиц с формированием зависимого интернет-поведения. Следовательно, на материале различных исследований доказано, что у лиц с зависимостью от Интернета наблюдается аддиктивное «расщепление», что значительно согласуется с трансформацией нейрофизиологических и когнитивных характеристик работы мозга. С нашей точки зрения, при формировании данного типа зависимости именно «электронная личность» [Потапова, Потапов, 2017], а в настоящее время «цифровая личность» реализуется в формате «аддиктивное Я». Между цифровой личностью и продуктом ее коммуникативной деятельности в Интернете возникает и развивается причинно-следственная связь на основе четырех знаковых систем: вербалики, паравербалики, невербалики и экстравербалики [Потапова, Потапов, 2006]. Все вышеперечисленные кодовые средства используются как отправителем информации, так и ее получателем в Интернете. В настоящее время не существует глубоко и тщательно разработанной системы профилактики интернет-зависимости, что требует специального и всестороннего изучения причин ее формирования.
Следует подчеркнуть, что одной из актуальнейших проблем является также аспект аутоагрессивного поведения цифровой личности не только в психиатрии, но также и в области валеологии в целом. Высокий уровень суицидов и других видов аутоагрессии, регистрируемых во всех видах ситуаций, подтверждают единство патогенетических механизмов нехимической зависимости и зависимости от психоактивных веществ [Федотов, Шустов, 2016; Palmer, Pankratz, Bostwick, 2005; Medication and suicide risk in schizophrenia: a nested case-control study, 2013; International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm, 2012; Shustov, Merinov, Tuchina, 2016]. По данным разных исследователей, от 13 до 20 % лиц с нехимическими зависимостями совершают суицидальные попытки [Frank, Lester, Wexler, 1991; Petry, 2012; Thompson, Gazel, Rickman, 1996]. При этом имеются научные изыскания, подтверждающие единство патогенетических механизмов нехимической зависимости и зависимости от психоактивных веществ [Анохина, 1995; Арзуманов, 2004; Потапова, Потапов, 2004; Скобелин, 2005; Шемчук, Ошевский, 2005].
В связи с вышесказанным исследование закономерностей аутоагрессивного поведения пользователей Интернета со сформированной интернет-зависимостью представляется актуальным и перспективным с учетом дальнейшей разработки эффективных практических рекомендаций для профилактики и дальнейшего лечения данного вида зависимости.
Приведем в качестве примера фрагменты исследования, задачей которого являлось изучение сформированной интернет-зависимости [Когнитивные нарушения у пациентов с патологическим влечением к азартным играм, 2020]. Важно подчеркнуть, что зависимое поведение применительно к компьютерным сетевым играм всегда реализовывалось с использованием Интернета. В контрольную группу испытуемых вошли 42 испытуемых мужчины с наличием зависимости от интернет-азартных игр, у которых нехимическая зависимость реализовывалась через азартное поведение. Все обследованные испытуемые не характеризовались наличием зависимости от психоактивных веществ, а также эндогенных пси-хических расстройств. Возрастные границы относительно представленной выборки включали испытуемых от 18 до 28 лет. Следует подчеркнуть, что испытуемые в данном эксперименте образовывали уникальную выборку, так как интернет-зависимость была единственным критерием в определении характера изучаемых реакций.
Методика исследования включала:
(A) Формирование корпуса анамнестических данных и информации об аутоагрессивном поведении испытуемых;
(B) Интервьюирование испытуемых с целью выявления моделей аутоагрессивного поведения испытуемых в прошлом и настоящем;
(C) Разработка на базе данных интервью моделей синдрома зависимости. В данном исследовании использовалась одна из версий интервью, имеющая максимальную факторную нагрузку относительно наличия парасуицидов в анамнезе. Следует подчеркнуть, что применяемое специализированное интервью имеет не только информативную, но и терапевтическую ценность;
(D) В ходе исследования использовались следующие шкалы и опросники: Монтгомери-Асберг для оценки депрессий (MADRS), обсессивно-компульсивная шкала Йеля-Брауна, модифицированная для гемблинга (PGYBOCS);
(E) Для статистического анализа были применены программы Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 10.0.
В результате проведения исследования было выявлено, что наибольшее число испытуемых с данным видом интернет-зависимости приходится на возрастной интервал от 22 до 25 лет (75 % испытуемых основной группы и 66,1 % контрольной группы).
Испытуемые характеризовались избыточным использованием Интернета и интернет-игр. Испытуемые, которые характеризовались игровой зависимостью, прекращали все другие виды деятельности (например, пропускали занятия, работу и др.), что приводило к серьезным последствиям в виде отчислений из вузов, потери работы. Все эти типы отклонений характеризовались как «расстройства привычек и влечений». У всех испытуемых основной группы отмечались постоянно повторяющееся дезадаптивное поведение, неспособность противостоять влечению к Интернету.
В результате проведенного эксперимента были описаны критерии определения синдрома зависимости:
• сочетание физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых пользование Интернетом занимает в системе ценностей индивидуума ведущее место;
• диагноз может быть поставлен при наличии трех и более признаков в течение некоторого времени за предыдущий год использования Интернета;
• сильная, иногда непреодолимая потребность времяпровождения с персональным компьютером в Сети и смартфоном;
• нарушение способности контролировать время, проведенное в Интернете;
• использование других электронных устройств, заменяющих игры в Интернете или смартфоне;
• прогрессирующая утрата других интересов и удовольствий кроме пользования Интернетом;
• продолжение увлечения Интернетом, несмотря на негативные последствия этой деятельности.
На основе многочисленных исследований были разработаны диагностические критерии, которые состоят из шести компонентов универсальных для всех видов зависимостей: сверхценность, изменение настроения, рост толерантности, симптомы отмены, конфликт с окружающими и с самим собой, рецидив [Интернет-зависимое поведение, клиника и диагностика, 2011; Reliability criteria of borderline personality disorder: A comparison of DSM-III and the Diagnostic interview for Borderline patients, 1984; Griffiths, 1996].
Расстройства, вызванные аддиктивным поведением пользователей Интернета в их онлайн- и офлайн- форматах, определяются как «узнаваемые и клинически значимые синдромы, связанные с дистрессом или нарушением функционирования индивида, формирующиеся в результате повторяющегося подкрепляющего поведения, а не употребление химических веществ, вызывающих зависимость» [МКБ-11]. Диагноз ставится на основании наличия устойчивых или периодически повторяющихся моделей игрового поведения.
Новая классификация отражает сходства между химическими и поведенческими аддикциями в плане этиологии, биологических механизмов, клинических проявлений и лечебных стратегий, подтвержденные многочисленными психологическими и нейробиологическими исследованиями [Fauth-Bühler, Mann, Potenza, 2016]. В этом смысле изучение игрового поведения и его дезадаптивных форм открывает путь к лучшему пониманию психобиологических механизмов возникновения как нехимических, так и химических аддикций, позволяя отделять экзогенные эффекты психоактивных веществ [Pathological Choice: The neuroscience of gambling and gambling addiction, 2013]. При этом на первый план выходит исследовательский поиск, потенциально способный обеспечить разработку таких методов, а также направленный на совершенствование существующих психосоциальных методов.
В настоящее время выделяют два основных подхода к пониманию игрового поведения: когнитивный и психобиологический [Clark, 2010]. Когнитивный подход сконцентрирован на содержании когниций и дефицитов контроля, которые поддерживают проблемное игровое поведение. Психобиологический подход соотносится с поиском нейробиологических и нейрохимических отличий патологических игроков от других популяций. По сравнению со здоровой популяцией испытуемые с игровой зависимостью страдают от ряда нарушений в когнитивной сфере [Neurocognitive functions …, 2006; Executive function …, 2008]. Несмотря на то, что у патологических игроков отсутствуют выраженные лингвистические и интеллектуально-мнестические снижения, у них последовательно выявляются дефициты исполнительных функций, в частности в распределении внимания, когнитивной гибкости, планировании действий, торможении и контроле импульсов, планировании действий и принятии решений [Clark, 2010; Potenza, 2014]. Указанные дефициты проявляются в повышенной импульсивности, проблемах саморегуляции, неспособности к гибкому рапределению внимания и переключению между поставленными задачами. Более того, вышеупомянутые дефициты проспективной способности характеризуются снижением способности к обучению и также реверсивному обучению [Quintero, 2016], что имеет непосредственное отношение к овладению естественным языком коммуникации, а также к возможности реализации самой коммуникации на естественном языке.
Дефициты исполнительных функций изучались в психобиологическом плане с помощью традиционных нейропсихологических тестов. Таких, например, как Висконсинский тест сортировки карточек (Wisconsin Card Sort Test / WCST) [Berg, 1948] и тест Струпа (Stroop Test) [Stroop, 1935]. В процессе тестирования, в первом случае испытуемые сталкиваются с задачей гибкого переключения внимания в постоянно меняющихся условиях (выделения абстрактных категорий и гибкого изменения принципа сортировки лингвистического материала в зависимости от категории), во втором – с необходимостью преодолевать автоматическое интерференционное влияние содержания предъявляемых слов на их определение и называние цвета шрифта. В данном случае тест используется для оценки гибкости / ригидности когнитивных процессов. По результатам исследования был сделан вывод, что выявленные дефициты исполнительных функций не могут быть объяснены нарушениями базовых когнитивных функций, которые у испытуемых с игровой зависимостью оставались неизменными. Оказалось, что полученные в ходе исследования нейропсихологические характеристики оказались худшими прогностическими факторами для определения игровой зависимости, чем выявленные личностные характеристики: импульсивность, повышенная склонность к поиску новизны и ухода от вреда, низкий уровень саморегуляции и сотрудничества.
Таким образом, исследование в психобиологической парадигме продемонстрировало связь игровой зависимости с когнитивными дефицитами, вносящими вклад как в импульсивное (сниженный когнитивный контроль и торможение импульсов), так и компульсивное поведение (проблемы с распределением внимания, ригидность когнитивных процессов, персеверации), что находится в прямой зависимости от вербального поведения человека, т. е. от его лингвокоммуникативной парадигмы.
Помимо традиционных для психологии когнитивных нарушений, особое внимание уделяется систематическим ошибкам мышления при оценке вероятностей и случайностей, которые присущи игровой зависимости [Clark, 2014]. Традиционно когнитивные искажения определяются как привычные автоматические модели мышления, которые поддерживают дезадаптивные базовые убеждения и допущения личности за счет обобщения, удаления и / или искажения внутренних и внешних стимулов [Fortune, Goodie, 2012].
Среди основных когнитивных искажений, свойственных испытуемым с игровой зависимостью, следует выделить следующие:
• сверхобобщение в отношении событий;
• произвольное умозаключение как извлечение выводов при отсутствии подтверждающих данных или данных, находящихся в явном противоречии с фактами;
• избирательное абстрагирование, когда события рассматриваются вне контекста и внимание акцентируется на определенных сторонах события за счет игнорирования других сторон;
• преувеличение или преуменьшение сложности ситуации, а также собственных возможностей успешного выхода из этой ситуации;
• персонификация как стремление наделять события и предметы качествами, свойственными человеку.
Вышеперечисленные когнитивные искажения, вызванные игровой зависимостью, соотносятся с когнитивными искажениями личности и с современными психобиологическими представлениями об этиологии химически независимых расстройств в рамках парадигмы двойного процесса [Goldstein, Volkov, 2011; Verdejo-Garcia, Bechara, 2009]. Эти «ментальные помехи», как показали многочисленные исследования, относятся не только к компьютерной игровой зависимости, но и к более масштабной интернет-зависимости, что оказывает многофакторное отрицательное воздействие на трансформацию личности в целом.
Интернет-аддитивная трансформация личности отражается в выборе средств передачи информации с учетом вербалики, паравербалики[3], невербалики и экстравербалики, т. е. посредством не только монокодовых средств (в частности, языка общения), но и «звучащих смыслов», а также жестики, мимики и т. д. С развитием различных цифровых платформ резко возросла степень поведенческой интернет-зависимости молодежного контингента: упростились языковые формы передачи сообщения, возник так называемый олбанский язык [Кронгауз, 2013], резко возросло число поликодовых средств передачи сообщения (звук, видео, лаконичные реплики, изображения и т. д.). Языковая форма передачи информации «уплотнилась» до максимума, делая ее понятной для интернет-зависимых членов определенного социального сообщества. При этом именно суммарно и компонентно поликодовые модели информационной единицы интернет-коммуникации, используемые в такой лаконичной форме, стали основой процесса коммуникации главным образом для интернет-зависимых коммуникантов. При этом нельзя говорить о едином сетевом жаргоне. Существуют многочисленные и разнообразные жаргоны и общее лексическое пространство, пополняемое за их счет [Словарь языка Интернета. ru, 2016]. Классическим примером как моно-, так и поликодовости в сетевой коммуникации является функционирование интернет-мемов[4], позволяющих кратко и емко передавать информацию для пользователей, «живущих» в этой среде и, как правило, не использующих другие виды сетевой коммуникации.
Согласно мнению ряда исследователей (см., например: [Выналек (Слободян), 2014; Кронгауз, 2012; Щурина, 2012; Самые популярные интернет-мемы, 2021]), обычно интернет-мем рассматривается как символический знак с позиции семиотики. Современная классификация интернет-мема как инструмента передачи эмоциональной информации в интернет-пространстве представлена следующими типами: текстовый мем (представляющий собой слово или фразу); мем-картинка; видеомем; креолизованный мем (состоящий из текстовой и визуальной части) (см., например: [Ксенофонтова, 2009]).
Наиболее интересную разновидность, с нашей точки зрения, представляет поликодовый, т. е. креолизованный мем, который характеризует личность автора с позиций степени погруженности в тему коммуникации. Следовательно, интернет-мем – это важная составляющая интернет-коммуникации, служащая своеобразным средством передачи эмоциональной информации. Он представляет собой некую содержательно скомпрессированную формулу молодежной интернет-коммуникации. Отсюда следует, что поликодовость в этом случае заменяет собой чисто вербальные формы общения, что, естественно, отрицательно сказывается на развитии языковой личности коммуникантов [Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах, 2016; Караулов, 1987; Караулов, Филиппович, 2008]. Как отмечает М.А. Кронгауз, для мем-творчества просматривается определенная креативная составляющая: «… интернет-мем стремится не к точному воспроизведению, а, скорее, к искажению или по крайней мере к новым контекстам в широком смысле этого слова» [Кронгауз, 2012].
Важно обратить внимание на такие негативные процессы общения в Сети, как распространение обсценной лексики, большого количества заимствований (в частности, англицизмов / американизмов) и жаргонизмов. Еще одной особенностью языка интернет-коммуникации предстает так называемый медиалект. Некоторые исследователи призывают относиться к современным процессам медиалекта с особой настороженностью, полагая, что он может в определенной степени оказывать негативное влияние на современный русский язык и культуру в целом. Например, по мнению О.В. Загоровской, язык Интернета «разрушает традиционные ценности национального русского сознания, понятие стилистической ценности, а также снижает уровень культуры русской речи» [Загоровская, 2020, с. 4]. В противоположность данной точке зрения, на основании анализа динамики экспертных мнений ведущих лингвистов, приблизительно за последние два десятилетия сложилось мнение, что негативные явления в интернет-коммуникации на русском языке носят временный характер своего рода языковой моды [Талыбова, 2017]. В целом же следует признать, что «… в процессе более глубокого проникновения Интернета в аудиторию и формирования мультиканальной интерактивной цифровой среды … проблемные зоны функционирования русского языка усугубляются» [Вартанова, 2017, с. 7].

