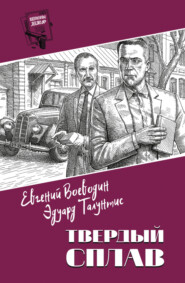
Полная версия:
Твердый сплав

Евгений Всеволодович Воеводин, Эдуард Ромуальдович Талунтис
Твердый сплав
© Воеводин Е.В., наследники, 2024
© Талунтис Э.Р., наследники, 2024
© Хлебников М.В., составление, предисловие, 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
«Операция закончена… Борьба продолжается»
Постоянные читатели нашей серии должны обратить внимание на типическую особенность авторов советских шпионских романов. Их писательские судьбы трудно назвать успешными. Безусловная популярность и востребованность шпионских книг не сопровождались ни официальным признанием их сочинителей со стороны государства, ни вниманием со стороны профессионального литературного сообщества. Впрочем, каждое правило требует исключения. Пришло время рассказать о нем. Говоря о сегодняшнем литературном тандеме – привычном явлении для нашей серии, – следует прежде всего обратить внимание на судьбу Евгения Всеволодовича Воеводина.
Он родился 10 апреля 1928 года в Ленинграде. Семья Воеводиных поколениями была связана с русским театром – еще в 1812 году Парамон Воеводин за «хороший голос» был выкуплен у графа Орлова по недурной цене в 2000 рублей серебром. От него и пошла династия театральных хористов Воеводиных. Дед Евгения – Петр Васильевич (1876–1927) – несколько изменил вектор семейной судьбы, став театральным режиссером и добившись на этом поприще впечатляющих результатов. Об этом свидетельствует его работа на посту главного режиссера сначала Ленинградского театра оперы и балета, а затем и Малого оперного театра. Его сын – Всеволод Петрович Воеводин (1907–1973) – к моменту рождения сына окончил четыре курса Института истории искусств. Но уже в пятнадцать лет Всеволод определился с родом своих занятий, выпустив сборник стихов с несколько преждевременным названием «Расцвет души» тиражом в 25 экземпляров. Через год талант зримо окреп, и поэт выдал второй сборник, «Prima vera», солидным тиражом в 200 экземпляров. Говоря о роде занятий, я имею в виду, что Воеводина-старшего можно назвать литератором – человеком, который свободно, в зависимости от внутреннего желания и внешней необходимости, меняет жанры и формы. Об этом свидетельствует его сотрудничество с Евгением Рыссом. Вместе они писали пьесы, приключенческие повести, сценарии. Любопытный эпизод приводит в «Телефонной книге» Е. Шварц:
«Когда я его встретил в начале тридцатых годов, работал он вместе с Женей Рыссом. Так и спрашивали – это какой Воеводин, который Рысс? И наоборот. Писали они пьесы все больше для Театра сатиры, и пьесы их ставили, что в те дни не являлось такой уж редкостью. Не вызывало шума и в рецензиях принималось легкомысленно. Одни поругивали, другие похваливали – нравы двадцатых годов еще не были выкорчеваны. Из названий пьес запомнил одно: “Сукины дети”. Ударение полагалось тут ставить на конце, описывалось какое-то семейство. Но публика, естественно, читала привычным манером. Кто посмеивался, кто обижался. В Театр сатиры пришло письмо, где предлагались Рыссу и Воеводину названия для новых пьес – сплошные непристойнейшие ругательства».
Писательский дуэт Воеводина и Рысса получился гармоничным. Свидетельство тому факт, что своего сына Воеводин назвал в честь соавтора. Внешне благополучная судьба Воеводина-старшего давала периодические сбои. Во время войны он служил в «Военно-морском издательстве», получая хороший паек. Но публичное выступление против начальства под влиянием спирта привело к тому, что службу пришлось оставить, писатель оказался на грани голодной смерти, чудом выжив после эвакуации из осажденного Ленинграда. В конце сороковых алкоголизм привел к тому, что Воеводина поместили в психиатрическую больницу. Отмечу важный момент. Кризис наступил в тот момент, когда его соавтор переехал на постоянное жительство в Москву. Еще раз обратимся к воспоминаниям Шварца:
«В те годы, в начале тридцатых, Воеводин жил более семейственно, более буржуазно, чем Женя Рысс. И жена его более походила на постоянную, настоящую. И мама, работавшая в Мариинке, жила возле. Но всегда он казался неустроенным и менее благополучным, чем вечно беспечный Женя».
Необходимость работать «сольно» угнетала Воеводина, что и привело к дикому срыву. Но в отличие от многих собратьев по писательскому цеху, Воеводин сумел обуздать пагубную привычку. Как ни смешно сегодня это звучит, признанием решения проблемы стал прием писателя в партию в 1951 году.
Такой подробный рассказ об отце Евгения Воеводина – не просто украшательство текста. Можно уверенно сказать, что сын во многом повторил судьбу отца с естественной поправкой на время. Также рано, как и отец, Евгений начинает печататься. В журнале «Костер» в победном 1945 году помещается его рассказ «Ночью». Затем следуют годы учебы на отделении журналистики филологического факультета ЛГУ. В это время у него выходит рассказ «Беглецы» в престижном и всем известном «Огоньке». В узнаваемо чеховской манере рассказывается о том, как герой в новогоднюю ночь ищет младшего брата, который вместе с другом сбежал в Китай, чтобы сражаться с империализмом. Рассказ заканчивается идиллически:
«Мы с Толей смеялись, глядя, как они встают и смущенно переминаются с ноги на ногу. Толя стащил с Гришки шапку и легонько дернул его за вихор. У Гришки дрогнули губы.
– Я вот маме скажу, что ты дерешься. Небось, когда сами в Испанию бегали, вас не били.
– Не били, – согласился Толя. – Зато мы и писали без ошибок.
– Зато вас и словили на Московском вокзале, – вступился Володька».
После окончания университета в 1953 году Воеводин получает место в «Вечернем Ленинграде», в котором и проработал до 1962 года.
«Звездный час» для Евгения Воеводина настал в 1964 году в связи с делом Иосифа Бродского. Долгое время процесс по делу о тунеядстве будущего нобелевского лауреата считался многими символом расправы системы над Поэтом. Яков Гордин торжественно назвал его «чудовищным судилищем», что явно несоразмерно как самому уголовному делу, так и его последствиям. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что преследование Бродского объясняется во многом внутренними ленинградскими разборками, в том числе между представителями писательских кланов. Большую роль в организации процесса сыграл Даниил Гранин. Во многом благодаря его стараниям «товарищеский суд» перерос в уголовный процесс. Именно он возглавлял комиссию СП по работе с молодежью. Собственно перед самим процессом Гранин технично свалил в сторону, вытолкнув на сцену своего заместителя – Воеводина. Участие последнего имело и значение с учетом национального вопроса. Так как мать Евгения Всеволодовича была из еврейской семьи, то это снимало возможное обвинение в антисемитизме, хотя и не делало его специалистом в поэзии. Некоторая растерянность Воеводина хорошо видна при чтении стенограммы судебного заседания:
«Судья: Свидетель Воеводин. Вы лично Бродского знаете?
Воеводин (член Союза писателей): Нет. Я только полгода работаю в Союзе. Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретят его стихи, и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может».
Именно Воеводину пришлось принять на себя вал общественного негодования. Колоритную сцену приводит в мемуарах известный критик и переводчик Виктор Топоров, мать которого была адвокатом Бродского:
«В зале публики было примерно пополам: друзья и поклонники Бродского – и “комсомольцы”, сидели вперемежку. В перерыве вся эта толпа набилась, как сельди в бочку, в маленькую заднюю комнату, в которой стоял бильярд. Друзья Бродского – Эра Коробова (тогда, кажется, еще Эра Найман), Яков Гордин и прочие насели на маленького тучного Воеводина, но он, “опершись жопой о гранит”, то бишь о край бильярдного стола, довольно бойко и даже как-то весело отругивался».
Отругиваться годами Воеводин был не в состоянии. Тем более, что никто особенно и не прислушивался к словам обскуранта и мракобеса. За ним намертво закрепилась сомнительная слава одного из главных гонителей и палачей Бродского. Этому не могли помешать постоянно выходившие книги, фильмы и телеспектакли, снятые по сценариям Воеводина. Учитывая наследственную склонность к алкоголю, неудивительно, что писатель искал утешение привычным для многих писателей способом. Марк Еленин, знавший Воеводина еще со времен учебы в университете, пишет об этом осторожно, но понятно для нас:
«Тут, между прочим, крылось и одно из его грустных заблуждений. Заблуждений всей его уже взрослой жизни. Он был добр, доверчив к людям. К тем, кого почему-то, по каким-то своим критериям, – как сейчас принято говорить – параметрам, – он отличал среди других, приближал к себе, был готов открыть сердце и широко открывал карман… Чувство отбора порой отказывало Воеводину. Его добротой и доверчивостью пользовались и своекорыстные, плохие люди, старающиеся извлечь нечто от близости к преуспевающему писателю».
Внезапный уход Воеводина из жизни в 1981 году остался фактически незамеченным. Долгие годы его книги не переиздавались, а немногочисленные упоминания имени сводились к повторению эпизода из «дела Бродского».
В отличие от своего соавтора Эдуард Ромуальдович Талунтис не обладал столь яркой внешней биографией, что объясняется спецификой его долитературной жизни. Он родился в Ленинграде 9 сентября 1926 года. Несмотря на то что разница в возрасте с Воеводиным составляет менее двух лет, Талунтис относится к военному поколению. В армию он призывается в июле 1943 года – в неполные семнадцать лет. Служил Талунтис в специальных войсках МВД. Учитывая его семейные корни, можно предположить, что он принимал участие в послевоенной ликвидации бандитского подполья в прибалтийских республиках. В 1950 году в звании капитана Эдуард Талунтис выходит в отставку. Начинается журналистский период его жизни. С 1955 по 1963 год Талунтис работает в ленинградской газете «Смена». В 1957-м он оканчивает Литературный институт, что позволяло считаться профессиональным писателем. Долгие годы Талунтис отдал написанию сценариев для документальных и художественных фильмов о войне. Но еще до этого начинается его сотрудничество с Воеводиным. Вместе с ним Талунтис написал ряд книг. Самая объемная из них – роман «Звезды остаются», выпущенный в Ленинграде в 1956 году, также рассказывает о военной поре. Но самое интересное в творческом наследии Воеводина и Талунтиса принадлежит к жанру шпионского романа.
В 1954 году в Ленинграде выходит их повесть «Совсем недавно…». Уже на следующий год книга была переиздана в серии «Фантастика. Приключение», которая выпускалась «Трудрезервиздатом», что свидетельствует об определенном успехе литературного дебюта соавторов. И для того были объективные основания.
Во время заводского воскресника молодой инженер Екатерина Воронина находит в развалинах полевую сумку. Желтые листки приоткрывают одну из тайн начала войны. Тогда немецкая разведка провела хитроумную комбинацию, внедрив в группу советских окруженцев своих агентов. Группа вышла, диверсанты затерялись в хаосе войны…
В это же время на заводе «Электрик» – месте работы Екатерины – произошла серия технических аварий. Предположение читателя, что неполадки – дело рук врага, достаточно быстро подтверждаются. Оказывается, что инженер Козюкин и главный бухгалтер завода Войшвилов, он же Ратенау, стоят за досадными сбоями. Интересно, что Козюкин – непрофессиональный шпион, а один из затаившихся сторонников партийной оппозиции:
«Давно, еще в середине двадцатых годов, Козюкина, в ту пору молодого специалиста, только что кончившего Ленинградский политехнический институт, вызвал к себе в губком один из руководителей оппозиции.
– Мы отправляем вас в Нейск, – услышал Козюкин. – Положение таково, что оппозиция должна затаиться на время. Сигнал будет вам дан».
Может показаться, что неопытные соавторы поторопились и «раскрыли все карты». Но дело в том, что имена остальных «агентов-окруженцев» неизвестны как читателям, так и майору Курбатому и лейтенанту Брянцеву, которым и поручено ведение этого непростого, запутанного дела…
Сюжет следующей повести Воеводина и Талунтиса, «Твердый сплав» (1957), тоже связан с историей войны. Студентка Ася Дробышева во время получения денежного перевода от матери обращает внимание на мужчину, который представился кассиру как Сергей Игнатьевич Дробышев. Но дело в том, что это фамилия, имя и отчество ее отца – инженера-металлурга, погибшего летом сорок первого года. В те дни Сергей Дробышев вместе со своим другом Владимиром Трояновским работали над созданием особо прочного сплава. Мирный труд прерван немецким вторжением. Дробышев погибает в бою с немцами, а Трояновский пропадает без вести. В уже мирные годы труд Владимира продолжает его отец – профессор Трояновский. Вокруг него и начинают плести заговор иностранные агенты. Подполковник Пылаев и капитан Шилкин приступают к расследованию. В повести много примет того времени, включая непременного стилягу – ребенка из обеспеченной семьи, претендующего на особенность и исключительность:
«Похвиснев принадлежал к числу людей, которые считают, что они родились только для радостей и удовольствий. Еще в раннем детстве родители внушили ему: он самый талантливый, красивый и обаятельный. Его зачислили не в обычную школу, а в школу-десятилетку при Академической капелле. Но учиться он не хотел и с первого класса чаще всего получал двойки. Отец приходил в школу, просил, требовал, настаивал, чтобы его сына не исключали, воспитывали, лелеяли. “У Бори гениальные музыкальные способности, абсолютный слух. Поэтому он плохо успевает по общим предметам. А то, что по гармонии и пению у него двойки, – так это ничего, пройдет. Он сейчас еще стесняется своего таланта, ему неловко выделяться”».
Понятно, что от стремления к легкой, беспечной жизни всего лишь один шаг до преступления против своей страны. Сегодня эта вроде бы забытая мысль приобретает особую актуальность…
Далеко не все из наследия Евгения Воеводина и Эдуарда Талаунтиса выдержало испытание временем. Но в представленных повестях имеется свой «твердый сплав». Именно его зримое присутствие позволяет с уверенностью говорить, что книга найдет своего неравнодушного читателя и в наши непростые дни. Думаю, что у многих возникнет странное чувство – события, описанные авторами, произошли не семьдесят тому назад, а «совсем недавно…». И авторское многоточие здесь оказывается исторически правильным.
М.В. Хлебников, канд. философских наукСовсем недавно…
Повесть
Пролог
1Из-за высокого крашеного забора доносились веселые голоса, смех, потом кто-то запел песню, ее подхватили, и прохожие на улице, улыбаясь, смотрели в сторону забора:
– Молодежь работает. Воскресник.
Там разбирали развалины дома, одну из последних руин, оставшихся в городе. Каждые полчаса машина, доверху груженная битым кирпичом, изуродованными взрывом трубами, проржавевшими и погнутыми остовами кроватей, выезжала из ворот в заборе. Звенели ломы и кирки, разрушая остатки стены нижнего этажа, и чем меньше оставалось битого кирпича, кусков известки, тем веселее становились голоса и бодрее песня.
На месте руин предполагалось построить заводский стадион, и молодежь завода «Электрик» уже предвкушала жаркие схватки с футболистами соседнего «Молотовца» или с легкоатлетами «Трудовых резервов» – на своем поле! Парни ожесточенно долбили, отваливая в сторону большие куски стены, а девушки таскали их на носилках к машинам.
– Что я, белоручка какая-нибудь! – расшумелась вдруг одна из них. – Петька две нормы еле-еле дает на производстве, а я – три с половиной, так что я, хуже его, что ли, чтобы кирпич таскать?
Валя взяла лом и встала рядом с парнями. За ней потянулись и другие девушки.
– Ой, – сказала Валя, – Екатерина Павловна, а вы-то зачем…
Екатерина Павловна, а попросту Катя Воронова, инженер с «Электрика», в широченных брюках, – надо полагать, отцовских, – тоже долбила киркой зубчатую стенку. Из-под кирки взметывалось при каждом ударе легкое оранжевое облачко кирпичной пыли. Катя рукой расшатала глыбу слипшихся кирпичей, разогнулась и стерла со лба пот. В это-то время крикнули неподалеку: «Манерка!».
Катя обернулась. Разгребая обломки, двое парней тащили оттуда погнутый, пробитый во многих местах солдатский котелок.
– Екатерина Павловна, я… боюсь, – проговорила Валя и выронила лом.
– Чего ты боишься? – Катя смотрела на девушку, не понимая. Та стояла, приложив ладони к побелевшим щекам, и у нее кривились губы. – Ну, что с тобой?
– А если… не манерка…
Катя догадалась.
– Не бойся, – ответила она. – Людей здесь не было. Их выселили, когда немцы подошли к заводу. Я работала тогда на заводе, знаю: здесь был КП. Может, случайно только… Да и то вряд ли.
Она подняла кирку и начала отваливать кирпичи. Острый клюв кирки легко раскалывал их. Валя, немного успокоившись, тоже принялась долбить слежавшиеся обломки, как вдруг снова отскочила и, споткнувшись, села боком на выступ стены, глядя расширенными от страха глазами на что-то вроде ремешка, выбившегося из-под развалин. Кате стало не по себе. Она нагнулась. Это был, действительно, ремешок – серый, почти истлевший. Концом кирки Катя потянула его, и он лопнул. Тогда Катя начала разгребать осыпь, и Валя, так и застывшая на месте, услышала спокойное:
– Полевая сумка.
Валя осторожно приподнялась, взглянула и попыталась улыбнуться; улыбка вышла кривой и робкой, – девушка все еще боялась.
– У Вороновой тоже трофей, ребята! – крикнул кто-то, и работавшие разогнулись. Катя тем временем осторожно раскрыла сумку – из нее пахнуло сыростью и плесенью.
Уже человек десять с любопытством столпились вокруг:
– Листки какие-то… Да ты осторожней… Может, тебе помочь?..
Из сумки высыпались плотно слежавшиеся, желтые, ломкие листки бумаги. Катя успела подхватить их. И вот уже не десять, а сорок или пятьдесят человек собрались вокруг; задние лезли повыше, опираясь на плечи передних, и кричали:
– Да разверни же, покажи!
Первая бумажка оказалась конвертом. Невозможно было прочесть на нем ни адреса, ни фамилии адресата. Конверт хрустнул и развалился в Катиных руках, когда она попыталась было его раскрыть. Тогда она осторожно положила обрывки между двух кирпичей и начала разворачивать другие листки, очевидно вырванные из блокнота.
Сверху первого листка, блеклыми буквами, смазанными, словно человек, писавший эти строки, провел по невысохшим чернилам пальцем, было написано:
«Рассказ старшины Николая Сергеевича Лаврова о переходе…» – дальше несколько строчек обрывалось, их смыла вода, только сиреневые подтеки виднелись на бумаге.
– Екатерина Павловна, что с вами? – растерянно крикнула одна из девушек.
Теперь уже Катя сидела на груде кирпича, дрожащей рукой проводя по лбу и щеке. Между тонких бровей появилась складка; казалось, Катя вспоминает что-то, но никак не может вспомнить.
– А? – словно очнувшись, она обвела столпившихся каким-то чужим и далеким взглядом. – Нет… Я так…
Она встала и сложила листки. Никто не видел, что написано там, ниже, где вода не смыла строчек, – это видела только одна Катя. Она осторожно положила листки в карман лыжной куртки и протянула вперед руку.
– Пропустите меня… – голос у нее срывался, она сказала это почти шепотом. Парни посторонились. Низко нагнув голову, она прошла по развалинам, спрыгнула с гранитного цоколя и вышла за ворота.
2Двенадцать лет назад, в глухую, туманную осеннюю ночь, буксирное судно «Резвый» вышло из маленькой бухточки безымянного скалистого острова и, деловито постукивая машиной, пошло на восток, в сторону города. На буксире находились, кроме команды (капитана буксира старшины Лаврова, кочегара и машиниста), пять раненых и пустые бидоны из-под бензина. Раненые лежали на палубе, укрытые одеялами и брезентом; ночь была сырая, не прекращаясь моросил осенний дождь.
Для прохода мелких судов в минных полях был оставлен в миле от берега узкий фарватер. Однако, когда гитлеровские войска вышли к берегу, этот проход стал не менее опасным, чем прямой путь через минные поля. Редкий рейс буксирам удавалось пройти незамеченными. После того как немецкий катер, погнавшись за буксиром, подорвался на мине и затонул, немцы не рисковали больше своими кораблями. На берегу были установлены орудия и прожектора. За восемь рейсов – туда и обратно – Лавров двенадцать раз попадал под огонь, и буксирчик приходил в город или на базу то с прорешеченными бортами и трубой, то с полусгоревшей палубой, а что касается команды, то на «Резвом» за эти восемь рейсов сменилось два машиниста и один кочегар, – тех троих похоронили на базе.
– Самый малый! – тихо скомандовал Лавров. В тумане не было видно берега, однако по времени Лавров знал: берег здесь, совсем близко, и там уже настороженно повернулись в сторону залива тонкие стволы орудий.
– Братишка, закурить бы… – попросил один из раненых.
– Отставить разговоры, – прошипел вниз, из рубки, Лавров. «Черт! – выругался он про себя. – По своему же морю как контрабандист какой-нибудь пробираешься… Ну уж…» Он не успел додумать: мутная полоса света легла спереди, по курсу буксира, и медленно начала приближаться. Казалось, в тумане кто-то разлил молоко: это включили на берегу прожектор, и он шарил совсем близко.
– Стоп машина! – Лавров вздрогнул, когда за кормой утих винт: словно сердце остановилось. Молочная полоса приближалась, тогда Лавров скомандовал: – Полный! – и налег на рукоятку штурвала. Буксирчик почти повалился на правый борт, уходя к берегу, туда, где не доставал луч прожектора.
Но на этот раз уйти не удалось. Теперь по борту, по трубе, по палубе разлился голубоватый, мутный свет, и Лавров почему-то подумал, как они выглядят сейчас с берега: наверно, немцы видят только темное пятно, впрочем, достаточно большое для того чтобы открыть стрельбу…
Там не ожидали, что буксир подойдет так близко, и первые снаряды легли вдалеке, вздыбив островерхие фонтаны. Немцы стреляли беспорядочно: невозможно было в тумане вести прицельную стрельбу, взять судно в «вилку». «Может, проскочим, – подумалось Лаврову. – Теперь они будут переносить огонь. Значит…» Значит, надо было резко сворачивать влево и идти мористее.
В это время на берегу вспыхнул еще один прожектор и сразу скрестил на буксире свой луч с первым. Словно дожидаясь только этого света, с визгом пронесся снаряд и упал в воду, окатив палубу ледяной водой. Лавров стиснул зубы. Второй и третий снаряд легли совсем у борта, и «Резвый» бросило в сторону. Треска Лавров не слышал, что кричал ему механик, – тоже не было слышно за грохотом. Однако буксир все еще шел, и Лавров даже усмехнулся, меняя курс.
– Да слышишь ты! – потрясли его за плечо. – В воду… В воду, я говорю… тонем.
Механик кричал над самым ухом Лаврова, поворачивая к берегу перекошенное лицо.
– Тонем? – переспросил Лавров.
Механика уже не было в рубке. Лавров выскочил на палубу. Палуба была пуста, механик лежал, крестом разбросав руки. От близкого взрыва «Резвый» совсем лег на борт, и безжизненное тело механика покатилось к борту.
Лавров успел схватиться за пустой бидон из-под бензина. Потом что-то подняло его и швырнуло в воду. Он потерял сознание.
3Лавров сразу же очнулся от холода, выплюнул горькую воду и увидел, что держится за ручку бидона. Метрах в десяти от него пылал «Резвый», стрельбы уже не было: немцы ясно видели, что буксир тонет.
На всякий случай Лавров снял ремень и привязал себя к бидону: так было надежнее. Потом Лавров поплыл, гребя одной рукой. Куда он плыл, он, пожалуй, и сам не мог бы сказать. На берегу потухли прожектора, только огонь на палубе «Резвого» робко раздвигал туман, словно плавил его.
Берег был справа. Плыть в залив не имело смысла – это значило бы попросту замерзнуть до рассвета, а там тебя, замерзшего, без сознания, еще неизвестно кто подберет – свои или чужие. Лавров решил плыть вдоль берега, – может, удастся где-нибудь выбраться в пустынном месте и через дюны уйти в лес, – ищи-свищи тогда. При нем был пистолет и две обоймы – это не так уж мало.
Когда Лавров выполз на берег, на песчаную отмель, силы уже покидали его, и перед глазами вспыхивали, мелькали цветные круги. Чем больше он напрягал зрение, чтобы разобраться в кромешной этой тьме, тем гуще, казалось, она становилась.
Лавров полежал на песке минут пять, а может быть и больше – трудно было сказать, сколько он лежал так, с пистолетом в прижатой к груди руке, щекой приложившись к холодному колючему песку. Потом он пополз тихо, благо мокрый от дождя песок не шуршал. Вдоль берега стояли колья, – натянуть проволоку немцы еще, очевидно, не успели. Это была удача; Лавров даже усмехнулся, с болью растягивая онемевшие губы. Все-таки наглецы те, кто пришел сюда: уверены, что все скоро кончится, к чему же тогда им заграждений, от чаек, что ли!

