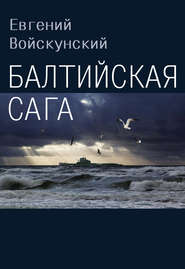 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Балтийская сага
– Шпорами почесывали затылки? – удивилась Рая. – Как это?
– Ну, это очень просто, – сказал я. – Закидываешь ногу за затылок и чешешь сколько хочешь.
– Если так просто, – засмеялась она, – так почеши.
– У меня нет шпор, а то бы почесал.
А Измайлов, убежденный сторонник материализма, пояснил:
– Они снимали шпоры с сапог и чесали.
– Во Фландрии, дорогой Измаильчик, – возразил Карасев, – шпоры с сапог никогда не снимали.
И он простер к Измайлову десницу и опять загудел:
Увы, мой друг, мы рано постарелиИ счастьем не насытились вполне…Он мог читать Багрицкого сколь угодно долго. Но время шло, Земля исправно совершала поворот, за окном сгущалась вечерняя мгла.
После ухода гостей я помог Рае помыть посуду.
– Я как будто на другую планету попала, – сказала она. – Хорошие у тебя друзья.
Утром я встал рано, было еще темно. Света не зажигал и двигался тихо, чтоб не разбудить Раю. Но она чуткая, проснулась, жалобно спросила:
– Уже утро?
– Да. Ты спи. А мне надо к подъему флага.
– Сейчас встану, чаем тебя напою.
– Нет. Попью чай на «Смольном». Спи.
– А когда придешь?
– Вечером. Но ты, как военно-морская жена, должна знать, что я не каждый вечер смогу приходить домой.
– Как плохо… И как хорошо…
– Что хорошо?
– Как хорошо, что у Бурака выскочила грыжа, – сказала она и блаженно потянулась.
В тот мартовский день была оттепель. С моря дул сырой ветер, и низко плыли гонимые им стада темно-серых облаков. Природа, равнодушная к людским страстям, вершила свой извечный ритм. В лужи талой воды, подернутые рябью, смотрелась подступающая весна.
В тот мартовский день с утра поплыл над гаванью протяжный до бесконечности гудок судоремонтного завода «Тосмаре» – то был набат, извещающий о большой беде. Гудели на станции паровозы.
Огромная страна замерла, оглушенная звуками траурных маршей, извергаемыми миллионами радиорепродукторов.
В то утро было назначено собрание офицеров дивизии. (Да, недавно наша бригада подводных лодок была преобразована в дивизию. Бывшие три дивизиона превратились в три бригады в ее составе. Ожидалось прибытие новых субмарин.) Мы сидели в темноватом зале клуба на береговой базе в ожидании начальства. Новый начальник политуправления флота должен был, как объявлено, сделать доклад.
Но начальство опаздывало. Вернее, задерживалось (начальство не опаздывает). Мы сидели, ждали. Не слышно было обычного гула голосов – ни шуток, ни смеха. Почти осязаемо сгущалась в зале атмосфера какой-то жути.
Наконец на маленькой клубной сцене появились старшие офицеры дивизии и новый начальник Пубалта – контр-адмирал невысокого роста с пухлым розовым лицом.
– Товарищи офицеры, – обратился он к залу, – нас постигло большое несчастье. Умер наш любимый, наш великий… – Тут контр-адмирала сотрясло рыдание, он расплакался.
Начальник политотдела дивизии живо налил воды из графина и поднес ему стакан.
Странный был день. После доклада о повышении бдительности занялись обычными делами, но настроение было неслужебное. Будто захлестнуло гигантской штормовой волной и понесло неведомо куда…
В девятом часу вечера я пришел домой.
– Ох! – Райка кинулась мне в объятия. – Наконец-то… А я жду, жду…
– Что с тобой?
– Не знаю. Почему-то страшно… Тебя весь день нет, и эти гудки, траурная музыка весь день… Почему-то хотелось спрятаться… хоть в шкаф залезть…
– Ты ела что-нибудь? Ты же хотела съездить в город, на рынок.
– Что-то ела. Нет, на рынок не ездила… Димка, тебе не страшно, что он вдруг умер?
– Не страшно, а странно… Непонятно, как теперь пойдет жизнь… Мелентьевы, соседи, позвали нас «выпить за упокой», как сказала Тамара. Она, сухопарая и длинноногая, с копной красновато-соломенных волос, в войну служила телефонисткой в СНиСе – службе связи на ораниенбаумском пятачке, командовала отделением девок-краснофлотцев и командирские замашки сохранила и в мирное время. Она и на мужа, капитан-лейтенанта Мелентьева, покрикивала, а тот, сам крикун изрядный, терпел и только носом шмыгал на ее крики.
Иван Мелентьев вообще-то был не подводник, а катерник, училище не кончал – выслужился из мичманов. «Я дымом пропахший, – говорил он о своей службе на катерах-дымзавесчиках. – Нанюхался химии на всю жизнь».
Служба была у него не гладкая. Отличился Иван со своим отрядом катеров, прикрывая дымзавесами высадки десантов в Выборгском заливе, потом в Моонзунде. Но в конце войны возникли неприятности из-за обильного употребления спирта внутрь организма, и верно, сильно задымленного. Падения по службе чередовались со взлетами, пока Мелентьев в послевоенные годы не получил назначения на бригаду подплава – командиром катера-торпедолова. Вот это было как раз по нему. Маленький остроносый кораблик сопровождал лодки, выходившие на учения. Лодки стреляли по условным целям, учебные торпеды в конце дистанции всплывали красными носами кверху (сжатый воздух выбрасывал воду из БЗО – боевых зарядовых отделений). И тут начинал работать Иван Мелентьев: торпедолов подходил к всплывшей торпеде, гаком (то есть крюком) крана зацеплял рым (скобу) на носу стальной сигары и, вытащив ее из воды, укладывал на палубу. Затем торпедолов устремлялся к другой торпеде, и так шло, пока все не будут выловлены, доставлены на «Смольный» и уложены на стеллажи в трюме – так сказать, на отдых до следующих стрельб. Торпеда, вы же понимаете, вещь очень дорогая.
У Мелентьевых были две комнаты – большая и смежная маленькая. В большой, где висели на окнах занавески с золотыми на вид петушками, мы уселись за стол. А на столе в большой вазе томилась, исходила жаром, вареная картошка, посыпанная зеленым луком, и возлежали на доске крупно нарезанные селедки, и, конечно, высились среди этого великолепия бутылки.
Иван Мелентьев, краснолицый, с оттопыренной нижней губой, сказал, подняв стакан:
– Вот, значит, усоп наш вождь. Всю жизнь был с нами, вел народ к коммунизму. Я бы кто был, если б не он? Беспризорный пацан, вот кто. Жить бы еще, да в животе тощó. А он меня вытащил из замерзелой жизни. И повел народ к победам. Вот, значит, выпьем за усопшего вождя.
Мы выпили.
Рая спросила Тамару, откуда такая крупная замечательная картошка.
– Да с базара, – ответила та. – Продукты тут хорошие. И еще лучше были, а стало их меньше, когда богатых крестьян угнали.
– Куда угнали?
– Ну, не знаю. В Сибирь, говорят.
– Мало ли что говорят, – сказал Мелентьев, наливая в стаканы водку. – Латвия что, не наша? Наша. Значит, как у всех коллективизация. Ну, давайте, чтоб, значит, не хуже было, чем при вожде.
Выпили мы. Из смежной комнаты донеслись вопли, оттуда выскочил мальчик лет семи, растрепанный, в белых трусах и желтой майке.
– Ма-а! – крикнул он. – Бойка деётся!
Тамара быстро прошла туда и, судя по раздавшемуся плачу, отшлепала кого-то.
Мелентьев, простуженно потянув носом, сказал:
– Борька на год младше Витьки, а драчливей. В меня пошел, вспыльчивый. А вы, значит, с Германом на одной «немке» служите? Ну, значит, будем знакомы. Давай!
Мы пили водку, и закуска была хороша. А чувство странности происходящих событий не исчезало. Что же теперь будет? Мелентьева, как видно, тоже занимал этот вопрос. Он развернул целое рассуждение: кто может заменить Сталина? Само собой, заменить такого великого вождя невозможно, но кто-то ведь должен возглавить государство. По радиовыступлениям выходило, что кандидатов трое. Но один – Берия – грузин, очень, конечно, важный, но все ж таки надо бы русского, верно? Молотов тоже важный, но старый. И выходит, что самым главным будет у нас Маленков.
– А может, Ворошилов? – взглянул на меня Мелентьев.
– Навряд ли, – мотнул я головой.
– Кто будет, тот и будет, – рассудительно сказала Тамара. – Я вот что хотела вам сказать, Вадим Львович. Китаев скоро уедет, так вы хлопочите, чтоб его комнату получить.
– Уедет на курсы и вернется, а комната останется за ним.
– Да нет, он совсем уедет.
– Куда?
– В Москву. Они ж москвичи. У Ксении папа по иностранным служит делам. Дипломат. Мне Ксения сказала, что Герман пойдет учиться тоже на дипломата. Папа, говорит, вытащит нас из этой дыры.
– Дыра знаешь где? – грозно повысил голос Мелентьев. – У Ксеньи в голове, вот где!
По-прежнему шла в Либаве тихая жизнь. От вокзала до рынка ходил, позванивал трамвай – маленькие, словно игрушечные, вагоны. На мощенных булыжником улицах липы весной исправно выбрасывали прутики новых веток из старых, подпиленных осенью. В гавани военного городка по-прежнему в семь утра пели корабельные горны, призывая к государевой службе.
Но государственная жизнь не отличалась тишиной.
Наступившее в марте того года Время Без Сталина несло удивительные перемены. Из тюрьмы выпустили врачей, – они оказались никакими не «отравителями», а жертвами клеветы и «недозволенных методов следствия», то есть пыток, избиений, и был назван виновник этого «дела» – некто Рюмин из министерства госбезопасности.
Затем было объявлено коллективное руководство. Не личность, не герой, а массы, народ – вот кто творец истории. Может, так оно и есть, в конечном-то счете. Но ведь массы всегда шли за кем-то – за князем, вождем, полководцем… «Народ безмолвствует»… Не пустые это слова, Пушкин не из головы их взял, а из истории.
А история, при коллективном руководстве, развертывалась прямо на глазах у народа-творца. Был арестован Берия, он оказался агентом западных разведок. Поверить в это поразительное обвинение было трудно. Ну не мог Сталин, с его умением глубоко видеть и даже предвидеть, долгие годы держать рядом с собой шпиона. Там, наверху, наверное, идет борьба за власть. Я поделился этой догадкой с моей женой (мы зарегистрировали в то лето наш брак).
– Ну не знаю. – Рая пожала плечами.
– Если тебе не нравится «борьба», тогда – «драка».
– Ой, Димка, не мешай мне.
Она склонила кудрявую голову над своими конспектами. Ладно, я не стал мешать. Скоро начнется новый учебный год, Рая пойдет преподавать русский язык и литературу. Ей помогла устроиться на работу завуч школы – жена нашего замполита Измайлова. Вот она и сидит, готовится к урокам.
Вообще, как-то наладилась у нас жизнь в Либаве. Тамара оказалась права: Герман Китаев уехал насовсем, его отозвали в Москву на курсы, готовящие военно-дипломатических работников, – это, конечно, устроил тесть-дипломат. Ну что ж, Герман неплохо владел английским, обладал приятной наружностью, знал, в какой руке держать вилку и в какой – нож. Из него получится хороший атташе.
А его комнату, хоть и не сразу (и не без затраты нервной энергии), я получил. Мы купили красивый рижский радиоприемник и широкую тахту (вместо казенной кровати). Из Питера Райка привезла занавески и большое, во всю стену, яркое «сюзанé», – и наше жилище преобразилось, стало, не побоюсь этого слова, уютным. По вечерам, если служба не удерживала, я, как приличный женатый человек, шел домой.
Но самым поразительным событием Времени Без Сталина был пересмотр «ленинградского дела». Так же коротко и сухо, как в январе 53-го объявили о заговоре «врачей-убийц», теперь, в мае 54-го, сообщили о постановлении президиума ЦК «О деле Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других». Я просто ушам своим не верил! Дело было «сфабриковано во вражеских, контрреволюционных целях бывшим министром госбезопасности, ныне арестованным Абакумовым и его сообщниками». И далее: «Избиениями и угрозами добились вымышленных показаний арестованных о создании якобы ими заговора…»
«Дело» сфабриковано! Не было никакого заговора!
Ну так выпустите моего отца!!
Новое слово вошло в нашу жизнь – реабилитация. Оно главенствовало в текстах писем и телеграмм, летавших в то лето между Ленинградом, Аткарском, Либавой – и Крестовкой, населенным пунктом на севере республики Коми.
Я давно заметил: с ускорением шли плохие, неприятные процессы, хорошие тянулись медленно. Но все же шли и они. Так или иначе, в июле мой отец Лев Васильевич Плещеев, освобожденный из лагеря, приехал в Ленинград. Его встретили Галина с Люсей и Лиза. Я сумел только в середине августа вырваться в отпуск. Скорый поезд помчал меня и Раю в Питер. Жара в вагоне была зверская. Есть не хотелось, обязательная дорожная курица лежала в сумке нетронутая, питались мы бутербродами и пили много чаю.
Жарко было и в Ленинграде, хотя и не так удушающе, как в поезде. Мы приехали в такси на Васильевский остров, на Четвертую линию, и, не заходя в Райкину квартиру, поднялись в мою, на третий этаж.
В большой комнате нас встретила Галина.
– А, приехали, – сказала вполголоса. – С приездом. – Мы поцеловались. – Поздравляю.
Не то с женитьбой нас поздравила, не то с возвращением отца.
– И мы вас поздравляем, – сказал я. – Где он?
– В кабинете. После завтрака прилег отдохнуть и уснул. Садитесь. Напою вас чаем.
– Не надо, Галя. Мы чаем наполнены по уши. Как идет реабилитация? Что с возвращением квартиры?
Я не рассказал вам, а ведь это произошло: два года назад, в августе пятьдесят второго, у отца отобрали квартиру на улице Союза Связи. Ну да, он осужден на десять лет, его жена неизвестно где, кто-то вносит квартплату, но дело-то ясное, квартира не может быть бесхозной. Из писем Лизы Галина и я знали, что в квартире новый хозяин.
– Хлопочем, – сказала Галина. – Заявление отца, со справкой о реабилитации, будет рассмотрено в Ленсовете. Но ту квартиру Льву вряд ли вернут, в ней поселился полковник из органов. Какое-то время, Вадим, нам придется пожить в твоей квартире, если не возражаешь.
– Конечно, нет. Живите сколько хотите.
– Спасибо. Все же хочу вас угостить. Рая, как вы относитесь к компоту из вишен?
– Хорошо отношусь. Но давайте подождем, пока Лев Васильич проснется.
– Минутку! – Галина приложила палец к губам.
Подошла к двери в кабинет, прислушалась. Похудевшая и поседевшая, в желтом платье-халате, она очень изменилась за минувшие четыре без малого года. Что-то в ней, подумалось мне, появилось от постоянно настороженного зверька. Да уж, не было больше королевы Марго…
Из кабинета послышался кашель, надтреснутый голос позвал:
– Галя!
Галина вошла в кабинет. Минут через десять она, улыбаясь, вывела под руку отца.
У меня перехватило дыхание. Отец был неузнаваемо худ. Бело-голубая пижама висела на нем, как на вешалке. Он сутулился, стал меньше ростом, его карие глаза за круглыми очками утратили прежнюю пылкость, былой победоносный блеск.
Мы обнялись, мои ладони ощутили костлявые плечи отца.
– Здравствуй, – кивал он лысой головой. – Здравствуй, дорогой мой… А это Рая? Тебя не узнать… такая сип… симпатичная… Поздравляю, что поженились…
Обмениваясь поздравлениями и улыбками, мы уселись за стол. Галина быстро его накрыла, среди чашек, рюмок и тарелок расположила эклеры в вазе и другую снедь. Я вынул из сумки бутылку армянского коньяка. И возгласил:
– За твое возвращение, отец. Мы верили, знали, что ты вернешься. Что страшная ошибка будет исправлена.
– Да-а, ошибка. – Отец чокнулся своей рюмкой со всеми. – Спасибо.
Он медленно, смакуя, осушил бокал. Покачал головой, вытер губы, сказал:
– Давно не пил… коньяк такой… Ошибка, говоришь? – прищурился на меня. – Преступление! Группа негодяев предпри… попá… попытку термидора! Втерлись в дверие, матер Матýта!
– Кого ты имеешь в виду? – спросил я.
– Берию, Абакумова… Рюмина… Свили гнездо – где? В Чекá! В гла…
– Лева, успокойся. – Галина подалась к нему, вытянув шею.
– В главной защите государства! – Отец кулаком ударил по столу. – Втерлись в доверие к Сталину! Лучших оклеветали работников партии! Расстреляли Кузнецова – такого за… замечательного… матер Матута…
– Прошу тебя, успокойся! – Галина носовым платком вытерла отцу лоб, положила ему на блюдце эклер. – Ешь пирожное.
– А что такое матер мапута? – спросил я.
– Матута, – поправил отец и откусил от эклера. – У нас в лагпункте был такой зэк Николахин, москвич. Ученый по античной истории. Мы с ним… Ну, в лагере кругом мат, все разговоры только с матом. А Николахин вместо мата говорил: «Матер Матута!» Это в древнеримской мифологии богиня женщин… Вот, значит, давайте. – Отец поднял бокал, снова наполненный. – За моих женщин. За тебя, Галя, за Люсю.
– За Лизу, – добавила Галина. – Она очень помогла нам.
– Да, и за Лизу, конечно. – Отец медленно выпил. – Ух, коньячок… Ну вот, мы с Николахиным много говорили… спорили… У него такой взгляд – как будто идеологические запреты тормозят развитие. Надо, значит, их отменить. А разве можно? Вседозволенность получится… хаос… Есть вещи, которые не подлежат пересмотру… Без опоры на них нельзя жить…
– Это верно, – сказал я. – Но рядом с ними – вещи, которые невозможно понять.
– Ты о чем? – щурил отец глаза.
– О негодяях, о которых ты говорил. Они же у власти. В руководстве страной. Как раз и опираются на нашу идеологию, – а действуют как враги. Бросают в тюрьмы таких людей, как ты…
– Они и есть враги! Хотят повернуть страну обратно, к капитализму, матер Матута! – Отец опять стукнул кулаком по столу.
– Лева, прошу, успокойся!
Тут послышались из коридора быстрые каблучки, и в комнату влетела Люся. В белой кофточке без рукавов и цветастой юбке, прелестно оживленная, звонко выкрикнула:
– Пятерка!
Подлетела к Рае, ко мне, расцеловались, – и вот она уже у отца на коленях, и тараторит:
– Вопросы попались легкие, сны Веры Павловны, «Разгром» Фадеева, а третий вопрос, значение поэзии Маяковского, не стали слушать, говорят «достаточно»!
И заливается смехом. Отец нежно гладит ее, веселую, по черноволосой голове и – умиротворенно улыбается, прикрыв усталые, на всё в жизни насмотревшиеся глаза.
– Поздравляю, доченька, – говорит Галина. – И объясняет нам: – Она сдала последний экзамен, набрала проходной балл. Ну надо же, Люська – студентка филфака университета!
Август подходил к концу, жара сменилась прохладой, пролились дожди. Так-то лучше, я жару переношу плохо. В эти дни я сопровождал отца в его хождениях по учреждениям. Он был остро нацелен на скорейшее восстановление прав. В жилуправлении отца нервировала большая очередь; я опасался, как бы ему худо не стало, обратился к людям с просьбой пропустить известного писателя, они хмуро выслушали, кто-то сказал, что поэт Плещеев давно умер, а другого он не знает, – но все же очередь пропустила отца.
В жилупре, да и в горкоме, куда отец обратился с просьбой восстановить его в партии, с ним разговаривали вежливо, обещали полное удовлетворение. Секретари писательского союза, разумеется, поддерживали требования реабилитированного писателя. Но открытый мною закон – плохие процессы идут с ускорением, а хорошие тянутся медленно – действовал неукоснительно.
– Выгонять – они скоры на руку, – сердился отец, – а как восстанавливать, так чего торопиться… обождут, матер Матута… Вот напишу Хрущеву про этих волокитчиков…
Мы говорили о Хрущеве, первом секретаре ЦК, оттеснившем Маленкова, предсовмина, с позиции главного начальника послесталинского времени. Он-то, по слухам, и был инициатором пересмотра «ленинградского дела». И не только ленинградского, но и – страшно вымолвить! – всех «дел» политзаключенных. Их стали выпускать из лагерей – с той же формулировкой, что стояла в справке о реабилитации у отца: «за отсутствием состава преступления». Потрясающе! Власть признала невинными, незаконно осужденными огромную массу людей! Сколько их было? Десятки тысяч? сотни? или, может, миллионы? Мы не знали. Удивительное наступило время – его метко прозвали «эпохой позднего реабилитанса».
Говорили с отцом и о других, тоже серьезных, событиях. О том, что в казахстанские безлюдные степи тысячи молодых добровольцев, комсомольцев, отправлялись поднимать целину. Будет больше хлеба – отлично!
Говорили о возможном примирении с Югославией – с Иосипом Тито, с которым резко поссорился Иосиф Сталин. О падении осажденного Дьен-Бьен-Фу, после которого французским колонизаторам пришлось пойти на мирные переговоры с вьетнамским и повстанц ами и образовалась граница по 17-й параллели.
И о повести Эренбурга «Оттепель».
Рая день-деньской носилась по Питеру, навещала подруг, она и принесла журнал «Знамя» с этой нашумевшей повестью. Мы все ее прочитали, повесть небольшая. Мне она, в общем, понравилась. Наступает весна, солнце пригревает иззябший за зиму мир, – и оттаивают человеческие души…
– Не бог весть какая метафора, – сказала за чаепитием Галина. – Солнышко пригрело, Лена целуется в холодном подъезде с Коротеевым. Ну и что? Этот поцелуй символизирует перемены в стране?
– Там не только поцелуй, – заступаюсь я за Эренбурга. – Снимают с работы Журавлева, директора завода, он болтает о пользе дела, а к людям равнодушен.
– Схематическая фигура, – морщится Галина. – Да и другие персонажи схематичны.
– Вы уж слишком, Галя. Эренбург, конечно, не Лев Толстой. Но и у него человеческие страсти. Возьмите Пухова – преуспевающий художник, пишет портрет Журавлева, – расписывает фойе в клубе пищевиков, – но ведь сознает, что он халтурщик. Завидует Сабурову – настоящему художнику, но не преуспевшему, почти нищему.
– Да, да. Сабуров – единственная удача в повести.
– Ну вот видите… Сабуров пишет прекрасные пейзажи, только их не покупают, не берут. Заморозки. Но наступила весна, и к нему пришли из союза, взяли две картины на выставку. Разве это не символ перемен, происходящих в жизни? Потеплело!
Отец не вмешивался в наш спор. Сидел за столом, пил чай, ел бутерброд с колбасой (Галину приняли на работу в газету «Вечерний Ленинград», там в буфете бывали дефицитные продукты, вот и сегодня принесла она редкостную вещь – финский сервелат). Сервелат, конечно, ему по вкусу, это ведь не лагерная баланда, но вид у отца был мрачный. Галина забеспокоилась: не болит ли сердце? (Позавчера был приступ, «скорую» вызывали.)
– Нет, – проворчал отец. – Ничего не болит. Кроме души.
Я сказал Рае, когда мы спускались в ее квартиру:
– Не нравится мне его настроение.
– Можно понять, – сказала моя умная жена. – Человека с высоким социальным статусом вдруг бросают на дно жизни, а потом, признав это ошибкой, не торопятся ее исправить.
Утром следующего дня я сопровождал отца в поликлинику. Какие-то зубцы на ленте электрокардиограммы не понравились терапевту, пожилой даме, она предложила отцу лечь в больницу, но он отказался. По рецептам, выписанным докторшей, мы купили в аптеке кучу лекарств. Я повел отца к троллейбусной остановке, домой его отвезти, но он вдруг остановился. Указательным пальцем поправил очки, взглянул на меня, десятки морщин собрав на лбу:
– Дима, знаешь что? Поедем в союз писателей.
– Тебе надо отдохнуть, – говорю.
– Там и отдохну.
Я знал: он любил в союзе посидеть в ресторане, коньячку на грудь принять. Ладно. Надо идти навстречу пожеланиям реабилитантов. Вскоре мы приехали в писательский особняк на улице Воинова и уселись за столик в уютном темноватом зале ресторана. Время обеденного часа еще не приспело, лишь несколько фигур рисовались тут вразброс.
С улыбкой подошла пышнотелая официантка:
– Здрасьте, Лев Васильич! Что будем пить-кушать?
Заказали коньяк, фирменный салат и кофе.
– Вчера об «Оттепели» говорили, – сказал отец после первой рюмки, подцепляя вилкой кудрявую зелень салата, – а я об Эренбурге думал. Блестяще работал в годы войны. Его статьи в «Красной звезде» буквально поднимали боевой дух на фронтах.
– На морях тоже, – сказал я.
– Да. Публицистика высшего класса. Но прозу его не люблю – телеграфный стиль, торопливый какой-то. Ты не находишь?
– Не знаю. Тебе виднее.
– Налей еще.
– Твое здоровье, папа.
– Спасибо. Хорош коньячок, по всем жилам растекается. Так вот, об «Оттепели». Он что, хотел показать, что после смерти Сталина смягчился режим? Ну так и покажи. А он Сабурова вывел. Ах, ах, затирали художника, хорошие пейзажи рисовал, а кушать нечего. Буря была, не до пейзажей. Теперь буря унеслась, весна наступила – нá тебе, Сабуров, кусок пирога. Заметили талантливого художника – в этом смысл оттепели?
– По-моему, не только в этом. Смысл – против равнодушия… против вранья и халтуры…
– Да это же только декларация! Покажи, как борются с этими безобразиями. А что Сабуров? Тихо сидит в своей конуре, в стороне от жизни народа, малюет пейзажи.
– Ну он не борец. Он делает то, к чему у него призвание. Его картины по-своему участвуют в жизни страны, потому что искусство…
– Жизнь – это борьба! Пусть Сабуров хотя бы крикнет Пухову: «Брось писать портрет дурного человека!» Действие нужно. Наливай!



