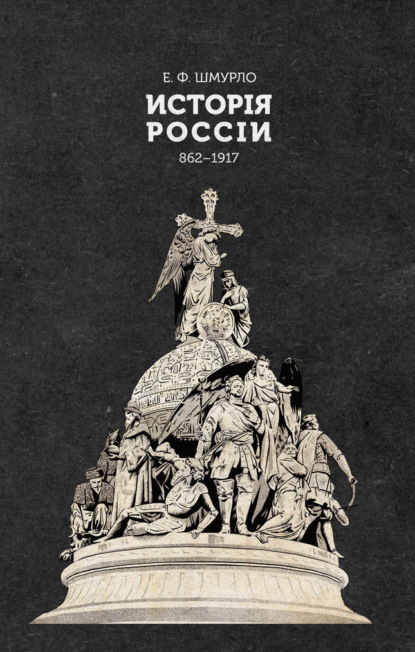
Полная версия:
Исторія Россіи. 862—1917
«Княжескій круговоротъ втягивалъ въ себя мѣстную жизнь, мѣстные интересы областей, не давая имъ слишкомъ обособляться. Области эти поневолѣ вовлекались въ общую сутолоку жизни, какую производили князья. Онѣ ещё далеко не были проникнуты однимъ національнымъ духомъ, сознаніемъ общихъ интересовъ, общей земской думой, но по крайней мѣрѣ пріучались всё болѣе думать другъ о другѣ, внимательно слѣдить за тѣмъ, что происходило въ сосѣднихъ или отдалённыхъ областяхъ» (Ключевскій).
Первый нашъ лѣтописецъ берётся за перо, чтобъ написать «Повѣсть времянныхъ лѣтъ» и въ ней разсказать, «откуду есть пошла Руская земля и откуду стала есть». Въ началѣ XII в. его современникъ, игуменъ Даніилъ, зажигаетъ въ Іерусалимѣ, на Гробѣ Господнемъ, «лампаду съ елеемъ отъ всей Русской земли, и за всѣхъ князей нашихъ, и за всѣхъ христіанъ Русской земли». Чувствомъ любви къ Русской же землѣ проникнуто и «Слово о полку Игоревѣ»: съ глубокою скорбью слѣдитъ оно за ея бѣдственнымъ положеніемъ и устами вел. князя Святослава взываетъ къ русскимъ князьямъ вступиться не только «за раны Игоря», но и «за обиду сего времени, за землю Русскую».
Вотъ почему выраженіе «удѣльно-вѣчевой періодъ» въ примѣненіи къ Кіевскому, установившееся въ нашей исторической литературѣ со времёнъ Карамзина и вошедшее въ учебники, за послѣднее время выходитъ изъ употребленія. Удѣлъ указываетъ на отдѣленіе, на обособленіе, а его-то и не было въ данномъ случаѣ: младшія княжества духовно не порывали со старшимъ, были не единицами самостоятельными, а частями единаго цѣлаго. Удѣльный порядокъ возникаетъ позже, на сѣверо-востокѣ, въ Суздальской землѣ, со времёнъ Всеволода III, – къ той порѣ и слѣдуетъ примѣнять этотъ терминъ.
VII. Упадокъ Юго-Западной Руси. Утрата Кіевомъ своего значенія
1. Набѣги половцевъ болѣзненно отразились на южнорусскихъ областяхъ.
а) Всего болѣе страдали пограничныя земли: Черниговская, Переяславская, Кіевская. Природа создала здѣсь наилучшія условія для земледѣлія, между тѣмъ поля лежали заброшенными и плугъ всё рѣже и рѣже проходилъ по нимъ. Пустѣли не одни поля: изъ сёлъ и городовъ половцы тысячами уводили плѣнниковъ въ свои степи. За 1055–1228 гг. извѣстно 37 половецкихъ набѣговъ на Русскую землю, не считая второстепенныхъ вторженій; въ 1160 г. изъ одного только Смоленскаго княжества – даже не пограничнаго! – уведено было 10000 плѣнниковъ! Эти несчастные большею частью попадали на азіатскіе невольническіе рынки.
б) Стала падать и торговля съ Византіей: половцы перегородили дорогу въ Грецію, проѣздъ по Днѣпру сталъ неизмѣримо опаснѣй, и затраты на предпріятіе плохо теперь окупались.
2. Отливъ населенія съ юга вслѣдствіе такого положенія дѣлъ сталъ неизбѣженъ: пусть природныя условія жизни будутъ хуже, лишь бы обезпечить себѣ безопасность извнѣ. Эмиграція шла двумя путями: на Западъ – въ верховья Западнаго Буга и Днѣстра, въ Галицію, въ сторону Польши; и на Сѣверо-Востокъ – всего больше – въ Суздальскую область, на Оку и Верхнюю Волгу.
3. Велико было зло отъ кочевниковъ, но княжескія усобицы его удвоили. Кіевской области досталось отъ нихъ всего тяжелѣе. Кіевъ обладалъ особою притягательною силою: старшій среди остальныхъ городовъ, самый богатый, онъ былъ олицетвореніемъ единства княжескаго рода и всей Русской земли; мѣстопребываніе митрополита, главы Русской церкви, онъ одновременно олицетворялъ и единство церковное. Обладаніе Кіевомъ создавало князьямъ почётное положеніе, удовлетворяло ихъ гордость и самолюбіе. Но именно поэтому-то удержать за собою Кіевъ и было особенно трудно. За 23 года (1146–1169) въ нёмъ перебывало 8 князей: четверо по два раза теряли городъ и по два раза возвращали его обратно, такъ что всѣхъ вокняженій (смѣнъ на престолѣ) было за это время счётомъ 12. Изъ всѣхъ претендентовъ лишь одному удалось усидѣть на кіевскомъ столѣ 6 лѣтъ (Ростиславъ Смоленскій: 1162–1169), зато остальные держались на нёмъ всего по нѣскольку мѣсяцевъ и даже недѣль.
4. Рано или поздно такой порядокъ долженъ былъ неизбѣжно обезцѣнить Кіевъ. Реальной пользы отъ него становилось всё меньше. Обладаніе имъ покупалось дорогою цѣною – вѣчными неладами, при полной неувѣренности въ завтрашнемъ днѣ. Званіе великаго князя кіевскаго превращалось въ игрушку, становилось пустымъ титуломъ. Многихъ эта игрушка ещё продолжала слѣпить своимъ наружнымъ блескомъ, но реакція должна была не замедлить. Общему яблоку раздора, Кіеву не хватало именно того, что является однимъ изъ условій всякаго сильнаго государства: политической устойчивости. Это понялъ Андрей Боголюбскій, и когда въ 1169 г. военное счастье улыбнулось ему и онъ завоевалъ Кіевъ, то, оставивъ себѣ титулъ великаго князя, не сталъ жить въ Кіевѣ, а остался въ своёмъ родовомъ Суздальскомъ княжествѣ. Кіевъ пересталъ быть столицею Русской земли. Экономически подорванный ещё раньше, онъ пересталъ существовать теперь и политически. Отъ этого удара ему уже никогда потомъ не удалось оправиться.
Но перенесеніе столицы на берега Клязьмы, въ городъ Владиміръ, задѣло не одинъ Кіевъ: оно превратилось въ событіе общерусское. Съ 1169 г. мы вступаемъ въ новый періодъ русской исторіи.
VIII. Представители эпохи. Владиміръ Мономахъ
1. Это человѣкъ полный энергіи и неутомимой дѣятельности. Его хватало на всё: на войну и дѣла внутренняго распорядка, на охоту и домашнее хозяйство, на думу съ дружиной и на молитву. Вся его долгая жизнь (1053–1125) прошла въ движеніи и работѣ, съ той самой поры, когда отецъ послалъ его, ещё 13-лѣтнимъ мальчикомъ, въ Ростовъ черезъ землю вятичей. Смоленскъ, Польша, Чешскій Лѣсъ, Туровъ, Полоцкъ, Черниговъ, вятичи, Волынь, Минскъ, половецкія степи – этапы его походной жизни. Онъ совершилъ на своёмъ вѣку 83 большихъ похода и поѣздки, а болѣе мелкихъ и припомнить не могъ. Неутомимый охотникъ, онъ собственноручно ловилъ и вязалъ дикихъ коней, неоднократно подвергалъ опасности свою жизнь: туръ металъ его на рога, олень бодалъ, лось топталъ ногами, вепрь на боку мечъ оторвалъ, медвѣдь кусалъ его, а лютый звѣрь валилъ вмѣстѣ съ конёмъ. Находилъ время Владиміръ слѣдить и за порядкомъ домашнимъ: онъ самъ держалъ ловчій нарядъ, самъ смотрѣлъ за конюшней, за соколами и ястребами.
2. Владиміръ Мономахъ не по имени только былъ христіаниномъ: образецъ благочестія, онъ милостивъ даже къ врагамъ; дѣйствія его проникнуты чувствомъ любви къ ближнему; защитникъ слабыхъ, онъ содѣйствуетъ торжеству правды надъ несправедливостью; онъ учитъ соблюдать крестное цѣлованіе и не казнить смертью, даже если бы человѣкъ былъ виновенъ и заслуживалъ её, «дабы не погубить души христіанской», – поясняетъ онъ.
3. Онъ былъ хранителемъ тѣхъ устоевъ, на которыхъ держался родовой порядокъ, и самою дѣятельностью своею воспитывалъ князей, старшихъ и младшихъ, въ сознаніи, что они составляютъ одну общую семью. Онъ уважалъ права старшинства, требовалъ наказанія во имя нарушенной правды, мирилъ враждующихъ и умѣлъ направить дѣятельность князей на достиженіе цѣлей болѣе достойныхъ, чѣмъ ихъ постоянныя «кóторы» (ссоры), – на борьбу съ половцами.
4. Владиміръ Мономахъ – неутомимый борецъ съ половцами, защитникъ Русской земли отъ ихъ набѣговъ. Онъ неустанно взывалъ къ князьямъ о необходимости напрячь свои силы и оградить Русскую землю отъ степныхъ варваровъ и многократными походами въ Степь достигъ того, что силы ея были надломлены, и Южная окраина, хотя на время, свободно вздохнула. 19 разъ заключалъ онъ миръ съ половцами, иначе говоря, 19 разъ принимался воевать съ ними; ещё при жизни отца (до 1093 г.) онъ имѣлъ 12 удачныхъ битвъ съ ними; на своёмъ вѣку изрубилъ и потопилъ свыше 200 половецкихъ князей, считая однихъ только главныхъ; около сотни перехваталъ и потомъ отпустилъ на волю.
Вышесказанное пояснитъ намъ, почему лѣтопись называетъ его: «братолюбецъ, нищелюбецъ и добрый страдалецъ за Русскую землю».
Походы князей въ половецкую степь при Мономахѣ, та энергія, съ какою велось наступленіе, та бодрая вѣра въ успѣхъ и желаніе, какимъ сгорали князья, проникнуть до самаго сердца половецкихъ вѣжей, чтобы рѣшительнымъ ударомъ навсегда освободить родную землю отъ разорительныхъ вторженій этихъ полудикарей, – напоминаютъ подобную же борьбу, какую какъ разъ въ то же время Западная Европа вела противъ другого, тоже тюркскаго, племени – въ Палестинѣ. «Славные русскіе походы въ глубь половецкихъ степей совпали съ началомъ Крестовыхъ походовъ для освобожденія Святой земли. Владиміръ Мономахъ и Готфридъ Бульонскій – это два вождя-героя, одновременно подвизавшіеся на защиту христіанскаго міра противъ враждебнаго ему Востока» (Иловайскій).
1. Владиміръ Мономахъ не есть идеальная личность: онъ не избѣгъ недостатковъ своего вѣка (убійство двухъ половецкихъ князей противно данному обѣщанію; разграбленіе города Минска); но его вѣкъ не обладалъ тѣми достоинствами, какія были у него (митр. Евгеній).
2. «Мономахъ принадлежитъ къ тѣмъ великимъ историческимъ дѣятелямъ, которые являются въ самыя бѣдственныя времена для поддержанія общества, которые своею высокою личностію умѣютъ сообщить блескъ и прелесть самому дурному общественному организму. Мономахъ вовсе не принадлежитъ къ тѣмъ историческимъ дѣятелямъ, которые смотрятъ вперёдъ, разрушаютъ старое, удовлетворяютъ новымъ потребностямъ общества: это было лицо съ характеромъ чисто охранительнымъ, и только. Мономахъ не возвышался надъ понятіями своего вѣка, не шёлъ наперекоръ имъ, не хотѣлъ измѣнить существующій порядокъ вещей; но высокими личными доблестями, строгимъ исполненіемъ своихъ обязанностей прикрывалъ недостатки существующаго порядка вещей, дѣлалъ его не только сноснымъ для народа, но даже способнымъ удовлетворить его общественнымъ потребностямъ. Тогдашнее общество требовало прежде всего отъ князя, чтобъ онъ свято исполнялъ свои семейныя обязанности, не которовался съ братіею, мирилъ враждебныхъ родичей, вносилъ мудрыми совѣтами нарядъ въ семью, – Мономахъ во время злой вражды между братьями заслужилъ названіе братолюбца, умными совѣтами и рѣшительностію отвращалъ гибельныя слѣдствія княжескихъ которъ, крѣпко держалъ въ рукѣ узелъ семейнаго союза. Новообращённое общество требовало отъ князя добродѣтелей христіанскихъ – Мономахъ отличался необыкновеннымъ благочестіемъ. Общество требовало отъ князя строгаго правосудія – Владиміръ самъ наблюдалъ надъ судомъ, чтобъ не давать сильнымъ губить слабыхъ. Въ то время, когда другіе князья играли клятвою, на слово Мономаха можно было положиться. Когда другіе князья позволяли себѣ невоздержаніе и всякаго рода насилія – Мономахъ отличался чистотою нравовъ и строгимъ соблюденіемъ интересовъ народа. Общество больше всего ненавидѣло въ князѣ корыстолюбіе – Мономахъ всего больше имъ гнушался. Новорождённое европейско-христіанское общество, окружённое варварами, требовало отъ князя неутомимой воинской дѣятельности – Мономахъ почти всю жизнь не сходилъ съ коня, стоялъ на сторожѣ Русской земли: въ какомъ краю была опасность, тамъ былъ и Мономахъ, „добрый страдалецъ за Русскую землю“. Если мы, отдалённые вѣками отъ этого лица, чувствуемъ невольное благоговѣніе, разсматривая высокую его дѣятельность, то какъ же должны были смотрѣть на него современники? Не дивно, что народъ любилъ его и перенёсъ эту любовь на всё его потомство» (Соловьёвъ).
3. «Около его имени вращаются почти всѣ важныя событія русской исторіи во второй половинѣ XI и въ первой четверти XII вѣка. Этотъ человѣкъ можетъ по справедливости назваться представителемъ своего времени. За нимъ въ исторіи останется то великое значеніе, что, живя въ обществѣ, едва выходившемъ изъ самаго варварскаго состоянія, вращаясь въ такой средѣ, гдѣ всякій гонялся за узкими своекорыстными цѣлями, ещё почти не понимая святости права и договора, одинъ Мономахъ держалъ знамя общей для всѣхъ правды и собиралъ подъ него силы Русской земли» (Костомаровъ).
IX. Памятники духовной культуры. 1054—1169
1. Поученія преп. Ѳеодосія, игумена Кіево-Печерскаго, 1057–1074 гг. «Почти всѣ содержанія нравственнаго. Они составлены не по правиламъ искусства и отличаются совершенною простотою, но проникнуты жизнію и пламенною ревностію о благѣ ближнихъ. Тонъ поученій часто обличительный, но вмѣстѣ глубоко наставительный и нерѣдко умилительный и трогательный. Языкъ – церковно-славянскій, но имѣющій нѣкоторыя особенности въ словахъ и оборотахъ рѣчи и не чуждый вліянія языка народнаго» (митр. Макарій).
2. «Поученіе, или Духовная» Владиміра Мономаха, нач. XII в.
3. Лѣтопись Нестора – Сильвестра, нач. XII в.
4. «Хожденіе во Іерусалимъ, или Паломникъ» игумена Даніила, нач. XII в.
5. «Въпрашанье» черноризца Кирика, съ отвѣтами новгородскаго епископа Нифонта (1130–1156). Въ этихъ «вопросахъ» и «отвѣтахъ» отразилась современная имъ эпоха: остатки языческихъ суевѣрій, состояніе нравственности народа и духовенства; младенческое состояніе нашей церкви.
6. Остромирово Евангеліе, писано для новгородскаго посадника Остромира, съ миніатюрами, русской работы, 1056–1057 гг.; драгоцѣнный памятникъ для изученія церковно-славянскаго языка (СПб. Публ. Библ-ка). Издано: СПб., 1843 и (фототипически) СПб., 1883.
7. Архангельское Евангеліе, 1092 г., отысканное на Сѣверѣ Россіи (Румянц. музей).
8. Мстиславово Евангеліе, писано до 1117 г., для новгородскаго князя Мстислава, сына Владиміра Мономаха. При Иванѣ Грозномъ Евангеліе возили въ Константинополь для переплёта. Верхняя доска филигранной работы, серебряная, позолоченная; выложена драгоцѣнными камнями и жемчугомъ; много финифтяныхъ изображеній (Москва. Сѵнод. Библ.).
9. Юрьевское Евангеліе, писано для Юрьевскаго монастыря въ Новгородѣ, 1119–1128 г. (Москва. Сѵнод. Библ.).
10. Евангеліе 1144 года, писано въ Галиціи (Москва. Сѵнод. Библ.). Изд.: М., 1882.
Евангеліе 1144 г. есть т. наз. Четвероевангеліе, т. е. всѣ 4 Евангелія расположены тамъ, полнымъ текстомъ, одно за другимъ: Ев. отъ Матвѣя, затѣмъ Ев. отъ Марка, отъ Луки и, послѣднимъ, Ев. отъ Іоанна; остальныя Евангелія: Остромирово и т. д. – т. наз. апракосъ: текстъ расположенъ въ порядкѣ чтенія въ церкви, на богослуженіи данной главы изъ даннаго евангелиста, по недѣлямъ, начиная съ Пасхи.
11. Святославовъ Изборникъ 1073 года, съ миніатюрами, въ томъ числѣ изображеніе вел. князя Святослава (сына Ярослава М.), съ женою и 5 сыновьями – первые русскіе портреты, писанные русскимъ художникомъ. Сборникъ (въ листъ) есть копія болгарскаго перевода (съ греческаго подлинника), приготовленнаго для болгарскаго царя Симеона (889–927). Переводъ этотъ, при перепискѣ русскимъ переписчикомъ, искажёнъ русицизмами. Содержаніе Сборника: статьи по философіи, риторикѣ, литературѣ, въ цѣляхъ истолкованія Св. Писанія (Москва. Гл. Архивъ Мин. Ин. Дѣлъ). Изд.: М., 1883 и (фотолитографически) СПб., 1880.
12. Святославовъ Изборникъ 1076 года, какъ и тотъ, содержитъ разныя статьи изъ твореній Св. Отцовъ; въ четвёрку. (Москва. Сѵнод. Библ.) Изд.: Варшава, 1894.
13. Подпись королевы Анны, дочери Ярослава М., вдовы французскаго короля Генриха I (ум. въ 1060 г.), на латинской грамотѣ, данной аббатству Санъ-Крепи, 1063 г.: «Анна Регина». Въ это время Анна была женою, вторымъ бракомъ, графа Рудольфа графа де Крепи (Crépy). Нынѣшній городъ Крепи лежитъ къ С отъ Парижа, на пути въ Суассонъ.
14. Церковь Успенія Б. М., въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ, 1073–1089 г. Она была необыкновенной красоты, «небеси подобной». Болѣе не существуетъ. «Ея стѣны и иконостасъ блистали золотомъ, разноцвѣтною мозаикою и прекрасною иконною живописью; полъ состоялъ изъ разновидныхъ камней, расположенныхъ узорами; верхи были позолочены, а большой крестъ на главномъ куполѣ сдѣланъ изъ чистаго золота» (митр. Макарій). Перестроена въ концѣ XVII в.
15. Михайловскій соборъ въ Златоверхо-Михайловскомъ м-рѣ, въ Кіевѣ; внѣшностью схожъ съ Кіево-Софійскимъ соборомъ; 15-главый; купола позолочены; мозаики (уцѣлѣли жалкіе остатки); 1108 г.
16. Георгіевскій соборъ въ Юрьевскомъ м-рѣ, подъ Новгородомъ; гладкія, безъ малѣйшаго узора стѣны величаво уходятъ въ небо; формы храма простыя, величественныя, даже суровыя; строилъ мастеръ Пётръ, 1119–1129 г.
17. Георгіевскій соборъ въ Юрьевѣ-Польскомъ, 1152 г., съ богатой скульптурой; мѣстами сплошная рѣзьба стѣнъ; перестроенъ при Всеволодѣ III.
18. Преображенскій соборъ въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, построенъ Юріемъ Долгорукимъ, 1152–1155 г.; одноглавый; пилястры дѣлятъ фасадъ на 3 неравныхъ части.
19. Успенскій соборъ во Владимірѣ-на-Клязьмѣ, 1158–1160 г., одноглавый, съ фресками; былъ богато украшенъ Андреемъ Боголюбскимъ; послѣ пожара (1183), будучи перестроенъ (1189) въ пятиглавый, утерялъ первоначальный романскій стиль; наружныя стѣны обведены горизонтальнымъ поясомъ изъ колонокъ.
Послѣдніе три храма (17–19), всѣ въ Суздальской области, хотя и строились по византійскому плану (почти квадратъ; куполъ на 4 столпахъ; алтарная стѣна образуетъ 3 полукруглыхъ выступа), но уже носятъ слѣды вліянія романскаго стиля (пилястры; поясъ изъ колонокъ; рѣзьба на наружныхъ стѣнахъ).
20. Икона Б. М. Одигитріи (Путеводительницы), Смоленская; писана, по преданію, евангелистомъ Лукою; привезена изъ Царьграда 1077–1078 г. (Смоленскъ. Соборный храмъ).
21. Икона Б. М., Владимірская; писана тоже Лукою, принесена въ Кіевъ изъ Царьграда въ 1131 г. Андрей Бог. перенёсъ её въ 1155 г. во Владиміръ – отсюда ея названіе, – а изъ Владиміра её перенесли въ 1395 г. въ Москву (Кремль. Успенскій соборъ).
22. Икона Знаменія Б. М. въ Новгородѣ, отвратившая въ 1169 г. отъ Новгорода рать Андрея Бог. (Москва. Маріинская обитель вел. кн. Елизаветы Ѳёдоровны).
NB. Преп. Алимпій (Алипій) Печерскій, первый извѣстный по имени русскій иконописецъ; родоначальникъ русской иконописи и живописи; ум. 1114 г.
23. Кіево-Печерскій монастырь, основанъ 1057 г.
24. Антоніевъ м-рь, подъ Новгородомъ, осн. 1117 г.
25. Юрьевъ м-рь въ Новгородѣ, осн. 1119 г.
26. Боголюбовъ м-рь, осн. послѣ 1155 г. на мѣстѣ, гдѣ остановилась (Владимірская) икона Б. М., привезённая изъ Кіева Андреемъ Бог.
27. Шапка Мономахова – памятникъ византійскій, «который былъ выполненъ не въ Константинополѣ, но или въ Малой Азіи, или на Кавказѣ, или въ самомъ Херсонѣ (Таврическомъ), словомъ, въ мѣстности, гдѣ византійское искусство въ XI–XII вв. соприкасалось съ развитымъ арабскимъ орнаментомъ. Мономахову шапку, по деталямъ техники, необходимо относить къ XII вѣку» (Кондаковъ). Впрочемъ, другіе учёные считаютъ шапку произведеніемъ чисто восточнымъ (египетскій султанъ Калавунъ прислалъ её Узбеку, хану Золотой Орды (XIV в.); позже, при паденіи Золотой Орды, она попала въ число добычи московскимъ великимъ князьямъ) (Оружейная Палата).
28. Княжеская женская діадема, изъ 7 золотыхъ створокъ съ цвѣтными эмалевыми иконками на нихъ и съ золотыми подвѣсками, русской работы конца XII в.; найдена въ Кіевскомъ кладѣ 1889 г. (Эрмитажъ).
29. Запись князя Глѣба Святославича, внука Ярослава Мудраго, на камнѣ: опредѣленіе ширины Керченскаго пролива, измѣренной по льду, между Тмутараканью и Керчью, въ 1068 г.: «Въ лѣто 6576 инд. 6. Глѣбъ князь мѣрилъ море по леду отъ Тьмутороканя до Кърчева 10000 и 4000 саженъ» (Эрмитажъ).
Б. Суздальско-Волынскій періодъ. 1169—1242
I. Характеристика періода
Основное содержаніе этого періода:
1. Попытки создать общій политическій центръ и сплотить отдѣльныя области въ одно цѣлое. Онѣ ведутся въ двухъ направленіяхъ: на СВ, въ Суздальской землѣ: Андрей Боголюбскій и Всеволодъ III Большое Гнѣздо (ум. 1212 г.); на ЮЗ, въ Галичѣ и на Волыни: Романъ Мстиславичъ (ум. 1205 г.) и сынъ его Даніилъ Галицкій (ум. 1264 г.). Новгородъ, какъ и раньше, активнаго участія въ политической жизни не принимаетъ и входитъ въ сферу вліянія суздальскихъ князей. Югъ (Черниговская и Кіевская области), обезсиленный, становится яблокомъ раздора между Суздалемъ и Волынью (въ 1195 г. въ Кіевѣ посаженъ Рюрикъ Ростиславичъ, подручникъ Всеволода III; Романъ его выгоняетъ, но самъ удержаться тамъ не можетъ. Послѣ Романа въ Кіевѣ утвердились было Ольговичи, князья Черниговскіе, но Всеволодъ и надъ ними берётъ верхъ. Позже Даніилъ Галицкій снова овладѣлъ Кіевомъ).
Это образованіе двухъ центровъ, вокругъ которыхъ сходятся остальныя русскія земли, свидѣтельствустъ о томъ, что уже теперь намѣтились тѣ два русла, по которымъ позже потечётъ русская жизнь: московскіе князья будутъ продолжать дѣло суздальскихъ князей, а литовскіе – объединятъ земли Юго-Западной Руси. Такимъ образомъ, послѣдующій Московско-Литовскій періодъ русской исторіи (1242–1462) явится логическимъ продолженіемъ и завершеніемъ настоящаго Суздальско-Волынскаго періода (1169–1242).
2. Борьба со Степью продолжается, даже интенсивнѣе, чѣмъ въ предыдущій періодъ, и въ этой борьбѣ Югъ окончательно хирѣетъ и падаетъ.
3. Княжескія междоусобицы продолжаются своимъ чередомъ. За 1055–1228 г. насчитываются въ общемъ 80 лѣтъ, прошедшихъ въ войнахъ, и только 93 года мирныхъ.
II. Суздальская земля
1. Заселеніе края. Двѣ колонизаціи – обѣ путёмъ мирнаго проникновенія въ финскія болота:
а) Древнѣйшая – изъ Новгорода, съ характеромъ чисто народнымъ. Города: Ростовъ, Бѣлоозеро, Суздаль.
б) Позднѣйшая – съ юга, княжеская, начиная съ Владиміра Мономаха (даже раньше: Ярославъ М. основалъ городъ Ярославль-на-Волгѣ); всего болѣе обязана Юрію Долгорукому и Андрею Боголюбскому. Послѣдній говорилъ: «Я всю Суздальскую Русь городами и сёлами великими населилъ и многолюдною учинилъ». Города: Переяславль, Москва, Юрьевъ-Польскій, Дмитровъ, Стародубъ, Галичъ, Звенигородъ, Тверь, Городецъ, Кострома и др.
Первая колонизація: переселенцы занимали ничью землю, устраивались самостоятельно, какъ могли и хотѣли; становились хозяевами на новыхъ мѣстахъ, ни отъ кого не зависимыми. Принеся изъ Новгорода вѣчевые порядки, они придерживались ихъ и здѣсь. Таковы старые или старшіе города.
Вторая колонизація: хозяиномъ здѣсь былъ князь; земля была его собственностью; переселенцы селились на его земляхъ. Съ первыхъ же шаговъ они становятся въ подчинённое къ нему положеніе. Условія для развитія вѣчевыхъ порядковъ здѣсь отсутствовали. Таковы новые или младщіе города (пригороды).
2. Какіе признаки того, что край заселился выходцами съ Юга?
Переселенцы принесли съ собою названія покинутыхъ ими мѣстностей и закрѣпили ихъ за новыми поселеніями; многіе города и рѣчки носятъ тѣ же наименованія, что и на Югѣ: Переяславль-Залѣсскій (то же и въ Рязанской области: Переяславль-Рязанскій), Стародубъ, Галичъ, Звенигородъ, Вышгородъ, рч. Почайна, Лыбедь, Трубежъ, Ирпень и др.
3. Отличіе новыхъ порядковъ отъ порядковъ Южной Руси.
Княжеская власть сложилась здѣсь на иныхъ началахъ, чѣмъ на Югѣ. Тамъ – первые князья явились пришельцами; они застали общественный порядокъ уже сложившимся и готовымъ (земледѣльцы-смерды на собственной землѣ; городское населеніе – крупные землевладѣльцы и купечество – съ развитой вѣчевою жизнью), и имъ оставалось лишь додѣлывать его, устанавливать подробности. Здѣсь – князья сами строили и создавали; здѣсь они являлись творческой силою. Въ Суздальской землѣ первый князь «обыкновенно находилъ въ своёмъ владѣніи не готовое общество, которымъ предстояло ему править, а пустыню, которая только что начинала заселяться, въ которой всё надо было завести и устроить, чтобы создать въ ней общество. Край оживалъ на глазахъ своего князя; глухія дебри расчищались, пришлые люди селились на „новяхъ“, заводили новые посёлки и промыслы, новые доходы приливали въ княжескую казну. Всѣмъ этимъ руководилъ князь, всё это онъ считалъ дѣломъ рукъ своихъ, своимъ личнымъ созданіемъ» (Ключевскій).
Таковы были Андрей Боголюбскій, братъ его Всеволодъ III. Выросши на сѣверѣ, они воспитали въ себѣ понятія и привычки иныя, чѣмъ тѣ, что сложились на югѣ. Это были люди земли, не утопій, съ практическимъ, трезвымъ взглядомъ на жизнь, безъ увлеченій и фантазій. Андрей Боголюбскій сознательно, безъ сожалѣнія промѣнялъ безпокойный златоглавый Кіевъ на скромный Владиміръ, затерянный среди финскихъ лѣсовъ и болотъ: здѣсь онъ былъ полнымъ собственникомъ и хозяиномъ, съ положеніемъ гораздо болѣе прочнымъ и устойчивымъ, чѣмъ то, какое могъ дать ему Кіевъ.
Такъ сложился новый типъ хозяина и вотчинника.
4. Типъ хозяина-вотчинника.
Типъ этотъ лишёнъ той прелести, того блеска и благородства, которыми отличался характеръ южныхъ князей: героевъ, предводителей дружинъ, которые не собирали себѣ ни золота, ни серебра, но всё раздавали дружинѣ и своею отвагою, безпокойною дѣятельностью расплодили Русскую землю, намѣтивъ границы ея европейской государственной области, неутомимо пробѣгая ея пустынныя пространства, строя города, прокладывая пути чрезъ лѣса и болота, населяя степи, собирая разбросанное и разъединённое населеніе. Работа благотворная, благодѣтельная, но этимъ она и завершилась: «Прочности, крѣпости всему этому они дать не могли по своему характеру; для этого необходимъ былъ хозяйственный характеръ сѣверныхъ князей-собственниковъ. Южные князья до конца удержали прежній характеръ, и Южная Русь вѣками бѣдствій должна была поплатиться за это и спаслась единственно съ помощію Сѣверной Руси, собранной и сплочённой умнымъ хозяйствомъ князей своихъ» (Соловьёвъ).



