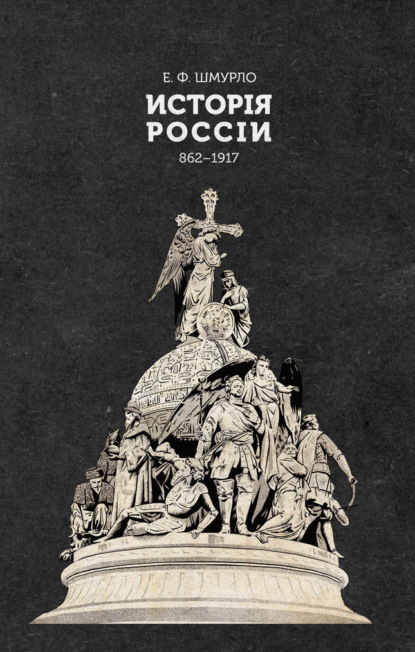
Полная версия:
Исторія Россіи. 862—1917
Другая система рѣкъ (Зап. Двина, Ловать – Волховъ – Нева), хотя и не въ такой степени, какъ южная, и притомъ значительно позже, въ свою очередь, тоже властно направила народную жизнь на сѣверо-западъ, къ Балтійскому морю (борьба за Ливонію и побережье Финскаго залива, съ Ивана Грознаго вплоть до Петра Великаго).
5. Непосредственное сосѣдство съ Азіей
Русское государство (Кіевское княжество) зародилось на краю большой прямоѣзжей дороги, по которой неустанно проходили азіатскіе выходцы, кочевые, полудикіе племена и народы: гунны, авары (обры), угры (иначе: венгры или мадьяры), хазары, печенѣги, половцы, татары (черезъ «Великіе Европейскіе Ворота» – низовья pp. Урала, Волги и Дона. Азія – officina gentium). Эти кочевники не давали спокойно жить; вниманіе раздвоялось; работа домостроительства постоянно прерывалась необходимостью дать отпоръ внѣшнему врагу, отогнать его отъ себя, охранить отъ его нападеній. Сравн. слова Владиміра Мономаха: «смердъ начнётъ орать, а половчанинъ убьётъ его, разграбитъ село, захватитъ жену и дѣтей и сожжётъ его гумно».
Общеніе съ «Азіей» сказалось на русской жизни отрицательно, не положительно. Позже, со стороны юга же, пришлось вынести двухъ съ половиной вѣковое монгольское иго, вести 300-лѣтнюю борьбу съ крымскими татарами; приходилось вынужденно углубляться въ кавказскія горы, въ заволжскія и зауральскія степи, дойти до самаго Памира, и всё это съ единственной цѣлью – оградить мирное населеніе отъ кочевника, который не могъ жить иначе, какъ разбоемъ. Мы его отгоняли, отодвигали свою границу, но на новомъ мѣстѣ повторялась прежняя исторія; и такъ шло на югѣ вплоть до времёнъ Екатерины, а на юго-востокѣ – почти до нашихъ дней. Фатально обречённый на поиски естественныхъ границъ, русскій народъ затратилъ на нихъ, какъ и на борьбу съ природой-мачехой, массу физическихъ и духовныхъ силъ, которыя, въ иныхъ условіяхъ, могли бы пойти на достиженіе цѣлей гораздо болѣе продуктивныхъ.
Такого рода помѣхъ своему культурному развитію Зап. Европа не знала: ея жизнь протекала въ условіяхъ несравненно болѣе благопріятныхъ. Набѣги норманновъ были явленіемъ временнымъ; норманны явились въ Европу не племенемъ, а лишь какъ военная дружина; они приняли ея языкъ и культуру и легко, незамѣтно слились съ туземнымъ населеніемъ. Послѣднее можно сказать и о мадьярахъ. Что же касается арабовъ, то ещё вопросъ, чего больше: зла или добра – внесли они въ европейскую жизнь? Арабы явились въ Европу въ пору высокаго развитія своей культуры: послѣдняя, въ нѣкоторыхъ отрасляхъ, даже превосходила культуру тогдашняго христіанскаго міра, и завоеванія арабовъ, нанеся временное зло, неизбѣжное при всякихъ войнахъ, обогатили европейскій міръ полезными знаніями (медицина, математика, географія, архитектура, поэзія, философія).
Пагубно было появленіе въ Европѣ османскихъ турокъ, но и то не столько для Западной, сколько для Юго-Восточной (Сербія, Болгарія, Австрія, Венгрія, Польша); да и тутъ тяжесть борьбы въ значительной мѣрѣ пришлось раздѣлить той же Россіи.
6. Лѣсъ и Поле (Сѣверъ и Югъ)
Другая особенность Русской равнины: дѣленіе ея на двѣ полосы, на Поле и Лѣсъ, на чернозёмно-степную и звѣроловную; одна для пахаря и скотовода, другая – для охотника, пчеловода, промышленника. Граница между этими полосами шла съ юго-запада на сѣверо-востокъ, отъ устьевъ Десны до устьевъ Оки, по линіи Кіевъ – Нижній Новгородъ.
Судьба и здѣсь оказалась мачехою для русскаго человѣка: чернозёмный, степной югъ лежалъ въ районѣ набѣговъ азіатскихъ кочевниковъ. «Южный земледѣлецъ долженъ былъ жить всегда наготовѣ для встрѣчи врага, для защиты своего пахотнаго поля и своей родной земли. Важнѣйшее зло для осѣдлой жизни заключалось именно въ томъ, что никакъ нельзя было прочертить сколько-нибудь точную и безопасную границу отъ сосѣдейстепняковъ. Эта граница ежеминутно перекатывалась съ мѣста на мѣсто, какъ та степная растительность, которую такъ и называютъ перекати-полемъ. Нынче пришёлъ кочевникъ и подогналъ свои стада или раскинулъ свои палатки подъ самый край пахотной нивы; завтра люди, собравшись съ силами, прогнали его или дарами и обѣщаніемъ давать подать удовлетворили его жадности. Но кто могъ ручаться, что послѣзавтра онъ снова не придётъ и снова не раскинетъ свои палатки у самыхъ земледѣльческихъ хатъ? Поле, какъ и море, – вездѣ дорога, и невозможно на нёмъ положить границъ, особенно такихъ, которыя защищали бы, такъ сказать, сами себя. Жизнь въ чистомъ полѣ, подвергаясь всегдашней опасности, была похожа на азартную игру».
Въ Лѣсной сторонѣ нѣтъ степного раздолья, зато жизнь безопаснѣе и работа домостроительства устойчивѣе и вѣрнѣе. «Лѣсъ по самой своей природѣ не допускалъ дѣятельности слишкомъ отважной или вспыльчивой. Онъ требовалъ ежеминутнаго размышленія, внимательнаго соображенія и точнаго взвѣшиванія всѣхъ встрѣчныхъ обстоятельствъ. Въ лѣсу главнѣе всего требовалась широкая осмотрительность. Отъ этого у лѣсного человѣка развивается совсѣмъ другой характеръ жизни и поведенія, во многомъ противоположный характеру коренного полянина. Правиломъ Лѣсной жизни было: десять разъ примѣрь и одинъ разъ отрѣжь. Правило Полевой жизни заключалось въ словахъ: либо панъ, либо пропалъ. Полевая жизнь требовала простора дѣйствій; она прямо вызывала на удаль, на удачу, прямо бросала человѣка во всѣ роды опасностей, развивала въ нёмъ беззавѣтную отвагу и прыткость жизни. Но за это самое она же дѣлала изъ него игралище всякихъ случайностей. Вообще можно сказать, что Лѣсная жизнь воспитывала осторожнаго промышленнаго политическаго хозяина, между тѣмъ какъ Полевая жизнь создавала удалого воина и богатыря, беззаботнаго къ устройству политическаго хозяйства» (Забѣлинъ).
Полевой югъ пріучалъ къ козакованью, Лѣсной сѣверъ, наоборотъ, – къ сидѣнью на мѣстѣ, къ общественности: выжечь ли лѣсъ, выкорчевать ли пни, вспахать поле – всё легче съ помощью другого, чѣмъ одному; оттого здѣсь больше, чѣмъ на югѣ, дорожили общественной жизнью и крѣпче держались ея; оттого и государственная жизнь установилась здѣсь прочнѣе, чѣмъ на югѣ. Позже, когда на югѣ стало невыносимо отъ кочевниковъ, населеніе Приднѣпровья направилось на сѣверо-востокъ, въ Лѣсную полосу и, колонизовавъ её, положило начало Великорусской народности. Такимъ образомъ, Поле и Лѣсъ наложили свой отпечатокъ на два развѣтвленія русскаго народа: на малороссовъ и великорусовъ.
7. Русскій Drang nach Osten
На Западѣ политическія границы государства для каждаго были очерчены, можно сказать, съ первыхъ же дней ихъ существованія и оставались, въ предѣлахъ данной народности, почти безъ измѣненій. Совершались завоеванія; чужія области силою оружія присоединялись; но именно потому, что онѣ были чужія, населены другимъ народомъ, обыкновенно онѣ отпадали и возсоединялись съ тѣми политическими организаціями, отъ которыхъ были насильно отторгнуты. Границы нынѣшней Англіи, Франціи, Испаніи, Италіи или Швеціи, Норвегіи почти тѣ же самыя, какими онѣ были при возникновеніи этихъ государствъ.
Столѣтняя война, въ Средніе вѣка, между Франціей и Англіей вернула послѣднюю въ ея естественныя границы; Итальянскіе походы французскихъ королей въ Италію, въ концѣ XV и въ началѣ XVI вв., окончились неудачно, главнымъ образомъ потому, что выводили Францію за предѣлы ея естественныхъ границъ; владычество Испаніи въ Сициліи и Миланѣ было непрочно по тѣмъ же причинамъ. Сравн. ещё: недолговѣчность шведскаго владычества въ Сѣверной Германіи, австрійскаго на Апеннинскомъ полуостровѣ, испанскаго въ Нидерландахъ. Одна только Германская народность раздвинула свои границы и, продвинувшись за Эльбу, въ восточномъ направленіи (нѣмецкій Drang nach Osten), колонизовала (германизировала) новыя земли (славянскія), превративъ ихъ въ нѣмецкія. Колоніи, какъ мы ихъ понимаемъ теперь, стали возникать лишь въ Новые вѣка: это всегда земли за предѣлами государства, обычно въ странахъ не-европейскихъ, особый міръ, рѣзко отграниченный отъ своей метрополіи.
Такой колонизаціи Россія никогда не знала; ея колонизація сродни германской, только въ большемъ масштабѣ. Русская колонизація – это постоянное раздвиженіе государственной границы, постоянный ростъ территоріи Русскаго государства. Чѣмъ была она вызвана? Равнинность Русской страны (см. выше, пар. 1), лёгкость передвиженія по рѣчнымъ путямъ (пар. 4) и вынужденный уходъ съ юга подъ напоромъ азіатскихъ кочевниковъ (пар. 6) выработали въ русскомъ народѣ большую подвижность и наклонность къ передвиженіямъ – черта, которая проходитъ чрезъ всю его исторію. Пройдутъ вѣка, прежде чѣмъ русскій человѣкъ окончательно осядетъ и заведётъ себѣ прочное, постоянное жильё. Передвиженія эти, не вполнѣ законченныя ещё и въ наше время, направлялись обыкновенно въ сторону наименьшаго сопротивленія: уже при Рюрикѣ русскій человѣкъ сидитъ не только въ Новгородѣ и Кіевѣ, но и на территоріи финновъ, въ Суздальскомъ краѣ (города Ростовъ, Муромъ); новгородскіе ушкуйники и промышленники съ давнихъ поръ захватили весь сѣверъ нынѣшней Европейской Россіи; Уральскія горы Ермака съ его ватагой не задержали; въ какихъ-нибудь 100 лѣтъ русскіе «землепроходы» прошли чрезъ всю Сибирь и дошли до береговъ Тихаго океана.
Наше продвиженіе на Востокъ было по преимуществу народнымъ: правительство шло уже вслѣдъ за народной волной, лишь санкціонируя совершившійся захватъ земель. Послѣдній по времени фактъ этого рода: присоединеніе по договору 1883 г. съ Китаемъ озёрной области Марка-Куль (за хребтомъ Южнаго Алтая), куда русскій колонистъ – раскольникъ и звѣроловъ – сталъ проникать съ половины XIX ст. Продвиженіе же на югъ и особенно на юго-востокъ, хотя отчасти тоже обязано народной иниціативѣ (донскіе, запорожскіе казаки; заволжскіе раскольничьи скиты), велось главнымъ образомъ самимъ правительствомъ и носило характеръ преимущественно военный (борьба на Кавказѣ; Оренбургская казачья «линія»; завоеваніе Хивы, Бухары и Коканда).
8. Наслѣдіе древняго міра
Географическое положеніе Русской страны обусловило ещё одну особенность въ жизни Русскаго народа. Въ потокѣ народовъ, хлынувшихъ около Рождества Христова изъ Азіи въ Европу (германцы, славяне, литовцы), славяне пришли въ ту пору, когда Западная и Средняя Европа были уже заняты, такъ что только нѣкоторымъ (южнымъ славянамъ) удалось размѣститься по сосѣдству или непосредственно въ областяхъ, испытавшихъ на себѣ вліяніе классической культуры (Далмація, Ѳракія, Мизія, Дакія). Да и то вліяніе это было относительно слабое, совсѣмъ не то, что на земляхъ древней Галліи, Иберіи или Карѳагена. Что же до русскаго племени, то оно очутилось уже совсѣмъ на крайнемъ востокѣ, куда древняя культура почти никогда не проникала. На сѣверныхъ берегахъ Чёрнаго моря, въ отдѣльныхъ пунктахъ, греки оставили было свои слѣды, но ко времени появленія русскихъ славянъ на Восточноевропейской равнинѣ слѣды эти совершенно исчезли; самая ближняя изъ культурныхъ странъ, Византія, была отдѣлена степями и моремъ. Вотъ почему большого и непосредственнаго, постояннаго вліянія на ходъ и развитіе русской жизни цивилизація Древняго міра имѣть не могла.
Иначе сложилась обстановка на Западѣ. Германскія племена разселились тамъ на самой территоріи Зап. Римской имперіи, среди самихъ римлянъ или романизированнаго имъ населенія; они восприняли культуру древняго Рима и, подъ вліяніемъ романизаціи, изъ прежнихъ германскихъ превратились въ народы романскіе, по духовному своему облику ставъ ближе къ римлянамъ Цесаря или Діоклетіана, чѣмъ къ своимъ предкамъ, германцамъ времёнъ Тацита. Болѣе неприкосновеннымъ германскій типъ сохранился тамъ, гдѣ новыя государства сложились на территоріи, не испытавшей вліянія Рима, или гдѣ его вліяніе было совершенно слабое (Англія, Германія, Скандинавія, Ютландія); однако и здѣсь христіанство, принятое изъ Рима, ввело эти государства въ кругъ той же римской цивилизаціи, что и народы романскіе.
Такая разница въ обстановкѣ и положеніи географическомъ Россіи и Западной Европы объяснитъ намъ, почему культурное содержаніе западноевропейскихъ государствъ значительно богаче и разнообразнѣе. На Западѣ новыя государства съ первыхъ же дней своего существованія получили въ своё распоряженіе богатый запасъ знанія, накопленный предыдущими поколѣніями, Россія, наоборотъ, сѣла на «пустое мѣсто», вслѣдствіе чего и культурное развитіе ея шло медленнѣе и по содержанію оказалось много бѣднѣе.
II. Языческія вѣрованія русскихъ славянъ
1. Основа общеарійская
Какъ и остальные арійцы, русскіе славяне поклонялись видимымъ силамъ природы, небеснымъ и земнымъ.
Для первобытнаго человѣка явленія окружающей его природы полны загадочности, таинственной прелести, и чѣмъ они загадочнѣе, тѣмъ охотнѣе надѣляетъ онъ ихъ сверхъестественными силами. Для него буквально всё полно сознательной жизни; весь окружающій его міръ населёнъ живыми существами, съ такою же, какъ у него самого, волей, желаніемъ, съ такими же злыми и добрыми мыслями, какъ у всѣхъ людей вообще. Солнце, звѣзды, луна, сама земля – это живыя существа; горы, лѣсъ, камни, травы и цвѣты – то же самое; громъ и молнія, дождь и вѣтеръ, ростъ дерева и шумъ водопада, таяніе снѣга и вскрытіе рѣкъ; мрачность лѣса и прозрачность воздуха въ лѣтній день – всё это таинственныя, непонятныя проявленія силы и жизни различныхъ существъ. Одни явленія поражали его силою, размахомъ: разливъ рѣки, завываніе вѣтра, зной и морозъ, безконечная степь, дремучій, полный ужасовъ лѣсъ; другія – странностью своихъ формъ: исполинское дерево съ лапистыми корнями, тёмная пещера, отпечатокъ фигуры на камнѣ; и чѣмъ недоступнѣе для человѣческихъ силъ были проявленія этой жизни природы, чѣмъ таинственнѣе и величественнѣе представлялись они людскому воображенію, тѣмъ сильнѣе приковывали къ себѣ вниманіе, тѣмъ больше вызывали почтенія и трепета. Первобытный человѣкъ «сознавалъ, что весь видимый міръ отъ былинки до небеснаго свѣтила одухотворёнъ тою же человѣческою душою, ея мыслью, ея чувствомъ, ея волею. Язычникъ, какъ новорождённое дитя, пребывалъ ещё на рукахъ, въ объятіяхъ матери-природы. Онъ чувствовалъ ея грозу и ласку, чувствовалъ, что эта вѣчная матерь наблюдаетъ за нимъ непрестанно, что каждое его дѣйствіе, помыслъ, намѣреніе и всякое дѣло и дѣяніе находятся не только въ ея власти, но и отражаются въ ея чувствѣ. Безотчётное и безграничное чувство любви и страха – вотъ чѣмъ былъ исполненъ этотъ ребёнокъ, живя на рукахъ матери-природы» (Забѣлинъ). Эта близость къ природѣ и сознаніе могучаго вліянія ея на жизнь человѣка привели къ обоготворенію природы и возвели это чувство на степень религіи.
2. Русскій Олимпъ
Силы небесныя: небо – Сварогъ; солнце – Дажьбогъ, иначе: Хорсъ, Волосъ (у зап. славянъ: Велесъ); громъ и молнія – Перунъ; вѣтеръ – Стрибогъ.
Сварогъ – общій всѣмъ отецъ; остальныя божества – его дѣти, Сварожичи.
Разныя наименованія солнца указываютъ, подобно миѳологіи другихъ народовъ, на разныя его свойства; но выдѣлены эти свойства въ миѳологіи неясно. Въ чёмъ разница межъ Дажьбогомъ и Хорсомъ?! Отчётливѣе представляется Волосъ: солнце, какъ податель всѣхъ благъ, между прочимъ, матеріальнаго богатства; послѣднее состоитъ въ обладаніи скотомъ – вотъ почему Волосъ сталъ скотьимъ богомъ (такому представленію естественнѣе было сложиться на пастушескомъ югѣ, а не на лѣсистомъ сѣверѣ). Сравн. у финикіянъ: Белъ – олицетвореніе благодатнаго солнца, дающаго свѣтъ, тепло; Ваалъ – губящаго (зной, засуха); Мелькартъ – солнца, вѣчно движущагося. У грековъ Мелькартомъ былъ Геліосъ, а Белъ изъ солнца матеріальнаго выросъ въ солнце духовное, въ Феба-Аполлона, въ бога духовнаго свѣта, нравственнаго совершенствованія и вдохновенія (своими лучами Аполлонъ убиваетъ Пиѳона, духа тьмы; Аполлонъ и его музы).
2) Силы земныя: Мать – Сыра Земля (олицетвореніе производительныхъ силъ земли; сравн. греческую Деметру, римскую Цереру); Лѣшій, Водяной, Полевикъ.
3) Культъ предковъ: Родъ (божество-производитель), Щуръ, Рожаницы; Домовой, Русалки. Сравн. Лары и Пенаты у древнихъ римлянъ.
3. Бѣдность русскаго Олимпа
А. Русскій Олимпъ много бѣднѣй и блѣднѣе Олимпа греческаго:
1) Греческій Олимпъ богатъ уже однимъ количествомъ своихъ божествъ, разнообразіемъ формъ въ олицетвореніи силъ природы.
2) Образы греческіе гораздо ярче, опредѣлённѣе; ихъ черты выражены рѣзче, полнѣе – божества же русскихъ славянъ лишь намѣчены; ихъ больше чувствуешь, чѣмъ видишь и осязаешь. Сравн.: Сварогъ и Зевесъ; Перунъ и тотъ же Зевесъ; Мать – Сыра Земля и Деметра; Дажьбогъ и Аполлонъ; лѣшій и панъ съ дріадами; водяной и нимфы.
3) Кромѣ того, русскія божества лишены этическаго элемента: они олицетворяютъ только силы природы – значительная часть греческаго Олимпа, наоборотъ, поднялась ступенью выше, до олицетворенія духовныхъ силъ, моральныхъ качествъ и культурныхъ проявленій дѣятельности человѣческаго ума. Сравн.: Зевесъ въ роли pater familias, верховнаго судіи; Аѳина-Паллада – богиня разума; Аполлонъ – богъ свѣта духовнаго; Гермесъ – посланникъ боговъ, покровитель торговли; Гефестъ – богъ ремёслъ, кузнечнаго мастерства, и т. д.
Б. Развитію греческой религіи содѣйствовало: 1) Она росла на свободѣ, безъ внѣшнихъ помѣхъ, въ теченіе долгихъ вѣковъ, имѣла время окрѣпнуть. 2) Богатая фантазія грека сумѣла выработать яркіе образы и найти имъ прочныя формы. 3) Особое сословіе – классъ жрецовъ – спеціально посвятилъ себя ея культивированію. 4) Литература, наука, искусство, въ свою очередь, прочно закрѣпили образы боговъ въ сознаніи народномъ. Оттого греческій Олимпъ оказался такимъ живучимъ и позже такъ долго отстаивалъ себя въ борьбѣ съ христіанствомъ.
В. Въ Россіи наоборотъ: 1) Христіанство захватило русское язычество, прежде чѣмъ оно успѣло достаточно развиться и окрѣпнуть, и потому легче могло подавить и заглушить его. 2) Вмѣсто жрецовъ здѣсь были одни только волхвы и кудесники. 3) Русскій Фидій и Пракситель способны оказались лишь на выдѣлку однихъ истукановъ грубой формы; ни литературы, ни науки на Руси до принятія христіанства ещё не существовало.
4. Отсутствіе жреческаго класса
Жрецовъ не было въ языческой Руси; были одни только волхвы или кудесники.
Различіе между волхвомъ и жрецомъ. Волхвъ – это мудрецъ, знающій будущее, гадатель, знахарь, ближе смертнаго стоящій къ таинственнымъ силамъ природы – къ божеству, какъ выразился бы вѣрующій язычникъ; жрецъ – избранникъ Бога, представитель на землѣ его интересовъ; знаніе и могущество жреца исходятъ непосредственно отъ Бога. Волхвъ ещё не жрецъ, но всякій жрецъ можетъ быть и волхвомъ. Волхвомъ можетъ назвать себя каждый и поддерживать въ другихъ это убѣжденіе соотвѣтственными дѣйствіями; жрецомъ же можетъ стать только тотъ, кого изберутъ и признаютъ въ этомъ званіи особые люди, имѣющіе на то право; а гдѣ есть такіе люди, тамъ они не только поддерживаютъ религію, но также и разъясняютъ её, даютъ болѣе отчётливое представленіе о сложившихся образахъ, стараются вкоренить убѣжденіе въ ихъ справедливость и возвышенность, – иными словами, развиваютъ и укрѣпляютъ въ обществѣ религіозныя вѣрованія. Потому-то тамъ, гдѣ нѣтъ жрецовъ, а одни волхвы, религіозныя понятія и представленія туманны и непрочны.
III. Варяги
1. Кто такіе были варяги
Варяги – это тѣ же норманны, что совершали, начиная съ IX вѣка, набѣги на Британію, Францію, Сицилію, Южную Италію, гонимые туда изъ скудно одарённой родины (Скандинавія, Ютландія) матеріальной нуждой, влекомые жаждою подвиговъ, удальствомъ и мыслью о лёгкой наживѣ. Они покидали свою родину отдѣльными, сравнительно небольшими дружинами или отрядами и, вернувшись домой, могли быть увѣрены, что найдутъ на мѣстѣ и домъ свой, и сородичей. Въ этомъ ихъ отличіе отъ франковъ, вандаловъ, вест- или остготовъ: тѣ, снимаясь со стараго селища, переселялись на новыя мѣста всѣмъ племенемъ, съ жёнами, дѣтьми, съ домашнимъ скарбомъ, со всѣми стадами скота и табунами лощадей; послѣ ихъ ухода оставалось пустое мѣсто, которое могли занять другія племена. Одни норманны шли на Западъ и извѣстны тамъ подъ этимъ именемъ (Nordmänner – сѣверные люди: таковыми были они для жителей Средней и Южной Европы), другіе выбирали Востокъ – этихъ обыкновенно звали (въ Византіи) Βάϱαγγοι – наёмники, наёмные солдаты.
2. Въ чёмъ ихъ отличіе отъ норманновъ
Но различіе между норманнами и варягами не въ одномъ названіи: норманны – преимущественно берсеркеры, удальцы, захватчики, морскіе пираты. Недаромъ появленіе ихъ въ Зап. Европѣ вызывало въ населеніи паническій страхъ; недаромъ тамъ сложилась молитва: «De furore Normannorum libera nos, Domine» («Отъ ярости норманнской избави насъ, Господи»). Свободное для всѣхъ море позволяло норманнамъ проникать всюду и безнаказанно. Варягамъ же, наоборотъ, путь въ Царьградъ лежалъ добрую половину по сушѣ, и, будь они исключительно шайкой грабителей и пиратовъ, прокладывай себѣ дорогу исключительно однимъ оружіемъ, имъ бы не добраться до Царьграда, а если и дойти, то значительно ослабленными въ силѣ и количествѣ. Между тѣмъ проѣздъ черезъ Русскую землю доставался имъ сравнительно легко – это потому, что изъ берсеркеровъ варяги превратились здѣсь въ дружинниковъ-торговцевъ: хотя и вооружённые съ головы до ногъ, они всё же прокладывали себѣ путь не столько насиліемъ, сколько соглашеніемъ, связавъ свой личный интересъ съ интересомъ мѣстнаго населенія, и въ самую Византію приходили не столько грабить, сколько торговать, или нанимались тамъ, за плату, въ военную службу.
3. Двоякое положеніе варяговъ на Руси
Не одна Византія притягивала варяговъ на Востокѣ: извлечь себѣ пользу умѣли они и въ Русской землѣ, причёмъ и здѣсь, хотя не отказывались при случаѣ прибѣгать къ силѣ, шли навстрѣчу мѣстнымъ нуждамъ. При постоянныхъ своихъ междоусобицахъ русскіе искали и находили себѣ въ варягахъ военную помощь и содѣйствіе (на этой почвѣ могла возникнуть легенда о призваніи Рюрика съ братьями); большіе города (Новгородъ, Кіевъ), гдѣ выросъ богатый торговый классъ, цѣнили варяговъ, какъ военную охрану ихъ торговыхъ каравановъ. Такимъ образомъ, роль варяговъ на Руси была двоякая: гдѣ они завоеватели (Аскольдъ и Диръ въ Кіевѣ; Рогволодъ Полоцкій), а гдѣ военная наёмная дружина. Но грубая сила въ ту пору значила много; такая дружина, естественно, пріобрѣла, въ лицѣ своего вождя, конунга, властный голосъ въ дѣлахъ общественныхъ, и въ результатѣ, наряду съ туземными племенными князьками (Малъ въ Древлянской землѣ), вскорѣ появились князья варяжскаго происхожденія (Рюрикъ, Олегъ) и взяли окончательный перевѣсъ надъ тѣми.
4. Появленіе варяговъ не было «завоеваніемъ»
По добровольному ли соглашенію или насильно осѣдали варяги въ Русской землѣ, во всякомъ случаѣ появленіе ихъ тамъ не имѣло ничего похожаго на завоеваніе Зап. Римской имперіи германскими племенами: тамъ цѣлое племя овладѣвало территоріей, захватывало власть, присвоивало себѣ земельныя богатства и, поработивъ туземное населеніе, лишивъ его правъ и свободы, становилось въ положеніе особаго привилегированнаго класса побѣдителей, причёмъ новая аристократія обыкновенно рѣзкой стѣною отграничивала себя отъ побѣждённыхъ. Въ Россіи, наоборотъ, даже въ лучшемъ случаѣ варяги являлись ничтожною горсточкой, которая постепенно таяла въ массѣ туземнаго славянскаго населенія, заранѣе обречённая на безслѣдное исчезновеніе (уже внукъ Рюрика, Святославъ, носитъ чисто славянское имя). Сравн. аналогичное явленіе въ Нормандіи: норманнскій элементъ – побѣдители распылился и тамъ; норманны приняли языкъ и культуру побѣждённыхъ французовъ, оставивъ по себѣ воспоминаніе въ одномъ только названіи завоёванной ими области – Нормандіи.
5. Варяги-Русь и Русь-Земля
Варяговъ наши предки называли Русью, Русскими (финское названіе: Руотси); названіе людей, дружинниковъ перенесено было потомъ на страну: самая земля стала тоже называться Русью, Русскою землёю. Такимъ образомъ, слѣдуетъ строго различать Русь-страну и Русь-людей: страна была славянская, люди – норманны, германскаго происхожденія. Здѣсь объясненіе, почему имена рѣкъ, горъ и урочищъ, равно и имена мѣстныхъ людей чисто славянскаго корня:
Волховъ, Ловать, Днѣпръ, Десна; Новгородъ, Смоленскъ, Черниговъ, Кіевъ, Любечъ, Переяславль; Боричевъ увозъ, Щековица, Хоривица; Кій, Щекъ, Хоривъ.
Имена же первыхъ князей и пословъ «отъ рода Рускаго», перечисленныхъ въ договорахъ Олега и Игоря съ греками, наоборотъ, чисто скандинавскаго происхожденія:
Князья: Рюрикъ – Hrörekr; Синеусъ – Signiutr; Труворъ – Thorvadr; Олегъ – Helgi; Игорь – Ingvarr; Аскольдъ – Höskuldr; Диръ – Dyri.
Послы: Карлы, Инегелдъ, Фарлоѳъ, Веремудъ, Рулавъ, Фостъ, Шихбернъ, Турбернъ, Шибридъ, Турбидъ, Фурстѣнъ и пр.
Здѣсь также объясненіе и названіямъ Днѣпровскихъ пороговъ, которыя приводитъ императоръ Константинъ Багрянородный въ своёмъ сочиненіи «Объ управленіи Византійской имперіи»: тѣ, что обозначены «по-славянски», дѣйствительно славянскаго корня:



