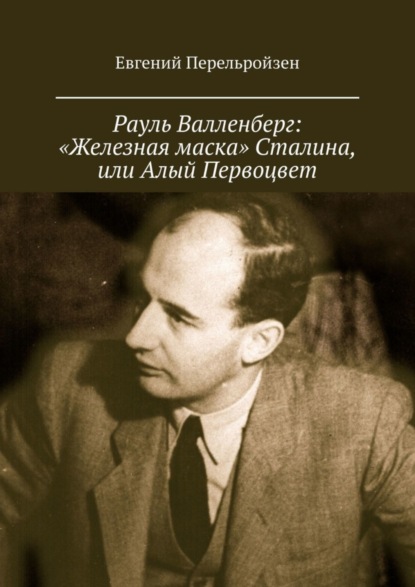
Полная версия:
Рауль Валленберг: «Железная маска» Сталина, или Алый Первоцвет
13 ноября 1931 года: «Интересующее нас лицо, т. е. Крюгер, неожиданно и срочно уехал за океан. Так и не передали ему ответа на его предложение, привезенного из Москвы. Но так даже лучше. Прютц уверен, что в начале 1932 года финансовые дела Крюгера вполне выяснятся. Если к худшему, то не стоило нам вообще вступать с ним в переговоры; если к лучшему – отсутствие ответа на его многообещающее предложение оставляет двери открытой…»
8 декабря 1931 года: «Новое помещение, особняк, куда переехало не все полпредство, а только представительские комнаты и частная квартира полпреда, т.е. моя… когда ухожу после работы, я уже у себя, „дома“. И только вызовут к телефону, если что-нибудь срочное… И не станет торгпред, пришедший в секретный отдел по своим делам, просить принять его „по лесной проблеме“ во втором часу ночи… Одно неприятно: справа от нас вычурный каменный палаццо Крюгера. Говорят, такие палаццо и еще пышнее у него имеются и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Кичлив этот финансовый спекулянт. Погляжу из окна голубой гостиной и сквозь ветви старых деревьев, покрытых сегодня инеем, вижу дом Крюгера, и, конечно, мысль опять завертится вокруг лесного вопроса. А надо запастись терпением и ждать 32-го года, по совету Прютца, да и по всей мировой конъюктуре…»
20 января 1932 года: «…Падение акций на бирже продолжается… Крюгер все еще в Америке, обделывает свои явно пошатнувшиеся дела…»
21 января 1932 года: «…Во Франции падение валюты и безработица. Та же картина по всей Европе, а Крюгер в Вашингтоне успокаивает Гувера, что Европа сумеет преодолеть кризис и выйти из экономического тупика, надо лишь со стороны Америки протянуть руку помощи Германии и, конечно, подкрепить также Скандинавию (т.е. ее банки)…»
13 марта 1932 года: «Телефонный звонок, тревожное событие, еду сегодня же с первым поездом обратно в Стокгольм. Это событие чревато последствиями.»
Конец марта 1932 года: «Выстрел в Париже 12 марта прозвучал на весь финансовый мир и глубоко всколыхнул шведов, связанных с биржевыми бумагами Крюгера. Выстрел отозвался зловещим эхом паники на многих биржах капиталистических стран. „Крюгер, современный Икар (так писали газеты), чьи крылья растопили лучи золота“, Ивар Крюгер, гордость Швеции, покончил жизнь самоубийством в Париже. Эта весть с быстротой молнии пронеслась по миру, и шведов охватила паника. Люди останавливали друг друга на улицах Стокгольма и спрашивали: „Неужели это правда?“. Нервно слушали радиопередачи и, не дослушав, бежали к знакомым. Рантье, отставные военные хватались за голову и вспоминали, что и у них есть спрятанный браунинг. „Лучше могила, чем бедность“. Старушки, превратившие свою вдовью пенсию в акции Крюгера, впадали в истерику и толпились у подъезда Скандинависка банкена; в семьях рантье, рассчитывающих на чудеса быстрого обогащения через „гениального афериста“, проливали слезы утраты… Но напрасно поддались панике шведы, крах Крюгера не есть еще конец капитализма и не грозит развалом буржуазному миру. Более солидная и менее запутанная в мировых финансах шведская финансовая фирма Валленбергов уже давно бдительным оком следила за Крюгером и его манипуляциями. Валленберги знали, что дела Крюгера пошатнулись, что его жульнические дела, особенно с псевдозаймом Италии, стали известны Уолл-Стриту и что не менее жульнические монополисты США отказались вытащить из ямы своего собрата по воровским проделкам. Хитрые дельцы Валленберги уже давно предвидели, что американцы откажут Крюгеру в новом кредите и что тогда-то и наступит долгожданный момент разоблачить и погубить конкурента. Валленберги имели наготове комиссию по государственному контролю над операциями фирм и банков Крюгера. Когда знаменитый аферист и жулик Крюгер покинул Америку с ее суровым отказом в кредитах, он тоже прекрасно знал, что готовят ему беспощадные конкуренты Валленберги в Швеции: разоблачение обманов, позор и крушение всей его карточной постройки „чудесного и сказочного быстрого обогащения“. Фальшивые махинации на бирже, „бронзовые векселя“ и проч. Впереди не просто разорение, а позор и тюрьма… Самоубийство Крюгера ошеломило шведов, но паника, вызванная сенсационным выстрелом в Париже, была пресечена на другой же день решительными и быстрыми мероприятиями правительства. Конечно, на такие крутые меры и быстроту действия кабинет Экмана-Хамрина не был бы способен, если бы за его спиной не стояла воля „некоронованного короля“ Швеции – Маркуса Валленберга и им подготовленная комиссия государственного судебного контроля над Крюгером. Первым делом шведское правительство задержало слух о выстреле в Париже почти на сутки. Затем закрыло двери всех банков, причастных к Крюгеру, объявив их подпавшими под государственную администрацию и мораторий. Это сразу успокоило вкладчиков, так как этим актом государство гарантировало выплату вкладов, не сейчас – так позднее. Затем начались аресты соучастников Крюгера и судебное разбирательство его дела… Вся эта крюгеровская эпопея относительно благополучно заканчивается для Швеции, и разорений меньше, чем ожидали. Шведы люди осторожные, осмотрительные, но крах Крюгера больно ударил по ряду других стран… Полоса волнений, связанных с крахом Крюгера, позади, но налицо несомненный застой в торговых делах Швеции и страх шведов входить в соглашения по торговым делам с иностранными державами… Москва того же мнения: не прерывать формально переговоры по лесу, но не только не форсировать их, а скорее тянуть с нашей стороны… Я с раздражением гляжу сквозь ветви старых кленов на вычурное палаццо Крюгера, дом №13. И хочу, хочу домой!..» [8]
О последнем важном задании для совместной работы Коллонтай и Канделаки рассказывает следующая запись в дневнике Александры Михайловны:
17 марта 1933 года
«Развиваем пары» с торгпредом – новое задание Москвы, новая проблема. Уже не госгарантия, а стомиллионный заем на десять лет. Эта проблема зрела в наших головах уже все последние месяцы, так как госгарантия нас не устраивала, нам надо акцию посерьезнее, посущественнее и более выгодную Союзу… Хамрин передал торгпреду, что он и ряд промышленников «работают» над идеей займа Союзу в сто миллионов крон и на десять лет. Торгпред и я ходили пьяные от радости. Сейчас я уже трезвее смотрю на вещи, особенно, после беседы с рядом лиц, которые могут быть причастны к этому делу. Во всяком случае факт налицо: шведские промышленники заинтересованы «поправить свои дела» и, дав заем нам, получить на сто миллионов заказов со стороны Союза. Торгпред уехал в Москву получить директивы…» [8]
Это было только началом тяжелой работы:
31 мая 1933 года.
«…Два дня длились напряженные переговоры между торгпредом и промышленниками под председательством министра финансов. Торгпред заезжал несколько раз в день посоветоваться со мной и спешил обратно. В конце второго дня наметили базу для переговоров. Сопротивление встретил десятилетний срок кредитов. При десяти годах промышленники требовали материального обеспечения со стороны Союза. На это мы не могли пойти без санкции Москвы… Вечером получен был ответ от наркома Внешторга. Частичное обеспечение он допускал в виде «алмазного фонда». Но от Литвинова ответа нет. Это уже хуже. Я хотела обождать указаний Литвинова, но торгпреду не терпится, директива наркома Внешторга ясна и она срочная…
С минфином договорились, частности выяснили. Обе стороны довольны. Это редко. Через день вопрос будет внесен на обсуждение парламентской комиссии. Уезжаем из министерства в приподнято-радужном настроении. Но радости дипломатов никогда не бывают долговечными. В полпредстве ждала меня директива Литвинова: ни о каких материальных обеспечениях госкредита речи быть не может. Я этого ждала и все еще сержусь на торопливость торгпреда. Вчера заявили, а сегодня брать назад – несерьезно, не по-деловому. Торгпред вне себя. Кидается к телефону. Москву! Москву! По четырем адресам шифровки. Решающим. Ответ отовсюду один: «Потрудитесь выполнить директиву»…Вигфорс выслушивает меня молча, обдумывая. «Это весьма прискорбно, – говорит он, – но в таком случае будем считать переговоры несостоявшимися». Мы прощаемся и уходим. Снова лестница. Но позади нее «разбитые надежды». Однако торгпред считает, что это вовсе не непоправимо. Мы поманили шведских промышленников и кабинет, пусть чувствуют, что мы не так уж в них нуждаемся. Сами возобновят переговоры. И лестница в министерстве финансов сразу перестает казаться мне такой мрачной» [8].
28 июля 1933 года.
«…Я пришла в Кремль, и меня впустили в кабинет Сталина (эта встреча почему-то не зафиксирована в справочнике «На приеме у Сталина» – прим. авт.) … Я хотела ему объяснить, почему у нас сорвались переговоры по госгарантии, но он отвел разговор вопросом: толковый ли у меня торгпред? И сразу заторопился и, пожелав здоровья, попрощался. Я ушла несколько удивленная, что срыв переговоров о госгарантии был принят в Москве вовсе не так «трагично», как мы себе представляли в Швеции. Позднее я узнала, что в перспективе стояла Лондонская конференция и выступление Литвинова о проекте многомиллионного заказа Англии на началах долгосрочного кредита или займа, но без материального обеспечения. Инициатива переговоров в Швеции шла от Розенгольца, так вышло. НКИД остался в стороне. Последние, решающие директивы приняты были в Политбюро. Когда Максим Максимович об этом узнал, он немедленно написал протестующее письмо Иосифу Виссарионовичу: «Этой мелкой сделкой со Швецией срывается вся акция в Лондоне о нашем предложении на миллиардные кредиты по нашим заказам»…
Таким образом, своего рода соревнование (но никак не соцсоревнование) двух ведомств сорвало важное для отношений между Союзом и Швецией дело… Урок: НКИД не любит поддерживать инициативу, которая не продиктована им… В нашей работе не надо быть слишком инициативной. Надо «проводить задания», а не создавать и находить прицелы» [8].
3 сентября 1933 года.
«В конце августа из Москвы неожиданно нагрянул нарком внешней торговли с женой, притом инкогнито и под чужой фамилией. Зачем это? Конечно, вопрос о займе! Москва интересуется и требует, чтобы мы приналегли. Для нас приезд наркома из Москвы полезен и по другой причине: все еще не изжит холодок из-за срыва переговоров о госгарантии весной…» [8].
10 ноября 1933 года.
«Сегодня важное событие: торгпред получил точные директивы, на основе которых можно начать переговоры о займе со шведским правительством… Основа в общем такова: заем чисто финансовый, которым располагаем мы для любого заказа в Швеции. Никакого материального обеспечения. Сто миллионов крон на восемь лет…» [8].
10 декабря 1933 года.
«Переговоры идут полным ходом. Шведское правительство само торопит… При обсуждении проекта договора мне стало ясно, чего шведы больше всего боятся: что мы стомиллионный заем не используем в Швеции. Они понимают, что для нас важен этот заем как прецедент, что обеспечит Союзу займы в других странах. Шведская же промышленность заинтересована в реальных заказах Союза. Вот и бьемся над формулировками пунктов – использование займа и срока самого займа…» [8].
12 января 1933 года.
«Когда я летом говорила с наркомом НКВТ, он напирал на два вопроса – кредит и валюта. „При быстром росте нашей тяжелой индустрии наше главное препятствие – нехватка валюты. Нам нужна валюта, – говорил нарком, – гоните валюту, развивайте экспорт в Швецию. Мы пригоним вам и второстепенный по значению товар: антрацит, фрукты и прочее. Валюта – это основная задача торгпреда. Помогите ему в этом, как в Норвегии. Швеция нам нужнее Норвегии. Она имеет много полезных для нас отраслей промышленности. Добивайтесь долгосрочных кредитов с госгарантией (тогда еще не был задуман заем). Работайте над кредитом“. Теперь, когда вопрос о кредитах уже перешел в новую, высшую стадию, я считаю, что здесь не зря поработали в прошлом году… все это было основательной подготовкой почвы для задачи еще большего значения, т.е. финансового займа Союзу… Финансового займа Союз еще нигде не получал. Пусть же Швеция создаст выгодный для Союза прецедент. Такова директива Москвы…» [8].
Конец февраля 1934 года.
«Ездила в Москву по делу займа всего на несколько дней. Литвинов определенно скептически относится к „затее НКВТ“, что меня очень обеспокоило. Но на заседании Политбюро Сталин высказался за заем, и наш текст по займу, принятый в госкомиссии в Стокгольме, Политбюро тоже утвердило. Директива для дальнейшей работы дана по всем пунктам… Торгпред сияет, а Литвинов, не прощаясь со мной, уходит нахмуренный. Это меня беспокоит…» [8].
8 марта 1934 года.
«Сегодня договор по займу закончен и парафирован… Но ведь предстоит еще официальное подписание договора… Затем самое важное: апробация договора парламентом. Это меня больше всего тревожит, особенно после предупреждения на этот счет Литвинова…» [8].
25 апреля 1934 года.
«Жуткий вчера выдался день, полный колебаний и сомнений. Началось это с прихода ко мне Нильса Линда, атташе по прессе шведской миссии в Москве. Он пришел из министерства иностранных дел с дурными вестями. Правительство не добилось поддержки голосов бунде (партии крестьян – прим. авт.). Следовательно, договор о займе Союзу, который завтра поступит на пленум парламента, будет отклонен…«Придумайте, вы, мадам Коллонтай что-нибудь, чтобы спасти положение», – говорит Линд. Он, конечно, думает не о займе Союзу, а о судьбе кабинета… Выход, по-моему, есть: надо, чтобы Москва заявила срочно что СССР договор о займе не ратифицировал, и тогда выйдет, что не шведы провалили договор, а мы отказались от займа. На это у меня еще нет полномочий Москвы, но это – шаг в духе политики Литвинова, он это одобрит… Прютц рассказал, как он в качестве председателя союза экспортеров, этой самой влиятельной организации монополистов Швеции, сделал еще одну, последнюю попытку спасти заем, Но премьер Ханссон и «король финансов» Валленберг заупрямились. – Наше предложение, – сказал Прютц, – вполне реальная финансовая комбинация между частными банками и правительством, она могла бы сломить упорство партии крестьян. Но ведь вы знаете, что Валленберг ожесточенный враг Советского Союза, он до сих пор вам не прощает успеха вашей революции 17-го года, а тут вы еще отобрали у него приятные его сердцу золотые слитки, как бы доставшиеся ему в наследство от правительства Керенского. Валленберг готов урегулировать любую задолженность с крестьянами, только бы не допустить их голосовать за заем. Ну а премьер Ханссон известный трус, он боится всяких дел с частными банками после скандала с премьером Экманом (был уличен в связях с банком Крейгера – прим. авт.) …я поспешила в шифровалку, чтобы отдать распоряжение об отправке уже готовой шифровки Литвинову… На другое утро получена была мною открытая телеграмма (не шифровка) от Литвинова, следующего содержания:
Министру иностранных дел САНДЛЕРУ (копия мне)
Имею честь от имени Союза Советских Социалистических Республик сообщить Вашему Превосходительству, что Центральный Исполнительный Комитет СССР, рассмотрев договор, предоставляющий Шведским Правительством 100-миллионный заем СССР и подписанный 16 марта сего года, означенный договор не ратифицировал, найдя некоторые условия невыгодными, о чем довожу до сведения Вашего Превосходительства. Литвинов» [8]
К изложенному выше А. М. Коллонтай сделала позднейшую вставку «Мои примечания 1949 года»: «Прав Прютц. Даже при временных срывах и неудачах, труды, затраченные на поприще дипломатии, никогда не пропадают бесследно, они со временем дают свои плоды и результаты, если прицел и курс взяты верно. В 1940 году, после заключения первого перемирия между нами и Финляндией, когда немцы уже заняли Норвегию, тот же кабинет Ханссона обратился к СССР с предложением расширить торговлю с СССР, предоставив СССР стомиллионный кредит с рядом выгодных для нас уточнений договора. Это был договор о займе [1934 года] с соответствующими изменениями, вытекающими из кредитного соглашения. Москва согласилась возобновить переговоры на этой новой основе… кредитное соглашение состоялось и начало вливаться в практику жизни нашими заказами и нашим экспортом в Швецию. Но и это соглашение было сорвано, на этот раз не монополистами, а фактом разбойничьей агрессии фашистов на Советский Союз 22 июня 1941 года. Государственное кредитное соглашение между СССР и Швецией не могло быть практически осуществлено из-за внешнего события – мировой войны. Но в канцеляриях торговых министерств Москвы и Стокгольма лежали два неиспользованных текста договоров между Союзом и Швецией: договора о шведском займе Союзу 1934 года и кредитное соглашение 1940 года. Оба эти важные документа не были похоронены, они ожидали лишь благоприятной конъюнктуры, чтобы воспрянуть и вступить в действие, конечно, в несколько переработанном виде…» [8].
Мы продолжим тему о торговых отношениях между СССР и Швецией после войны в главе 14 все с той же целью: оценить влияние этого фактора на дело Рауля Валленберга.
5 января 1935 года А. М. Коллонтай записала в дневнике: «…Торгпред уехал. Как сработаемся с новым?…» [8]. Незадолго перед этим Давид Канделаки дважды (28 и 29 декабря 1934 года) встречался со Сталиным в его кремлевском кабинете, получая инструкции для выполнения новой, «германской миссии» Канделаки. В ходе ее Д. В. Канделаки побывал в кабинете Сталина еще 18 раз… [25].
В «Дипломатических дневниках» Канделаки ни разу не упоминается по имени (как и другие сотрудники полпредства, многие из которых были репрессированы – материал был отредактирован в последние годы жизни Александры Михайловны (1946 – 1952), ведь он предназначался к печати, пусть и в далеком…1972 году (в год столетия со дня рождения Коллонтай), на самом же деле эта книга увидела свет лишь в 2001 году). Он именуется «торгпред» и это слово встречается не менее сотни раз в восьмой – двенадцатой тетрадях (1930 – 1934 гг.) этих дневников. Очень мало слов об отношениях между ними, просто констатация совместной четырехлетней работы «по золоту, лесу и займу».
Зато А. И. Ваксберг уделил много места характеру их отношений [20], основываясь на каких-то других материалах архивов Коллонтай.
«В Стокгольме ее ждал сюрприз: пока она «прохлаждалась» в Сочи, прибыл новый торгпред. С первой же минуты она почувствовала к нему полное расположение. Об этом – спонтанная, по горячим следам – запись в дневнике: «Очень, очень симпатичный кавказец, культурный, умный, приятная внешность, приятные манеры. Интересно разговаривать с таким эрудированным и внимательным собеседником. […] Уверена, что сработаемся […]» Это был Давид Канделаки молодой человек с туманным прошлым, недавно начавший работать в наркомате внешней торговли. Про него говорили, что он очень близок к Сталину, точнее, к Алеше Сванидзе – брату первой жены Сталина и его личному другу. Вхожесть в дом вождя делала нового торгпреда в глазах Коллонтай еще более симпатичным, а его очаровательная молодая жена – врач Евгения Бубнова – покорила своей готовностью немедленно включиться в общественную работу… По множеству признаков она все более убеждалась в том, что торгпред действительно близок к вождю и выполняет здесь его личные поручения. Все друзья, которые приезжали к нему в Стокгольм или состояли с ним в переписке, относились к узкому кругу сталинских родственников или домашних приятелей: кроме Алеши Сванидзе, еще и Шалва Элиава, Станислав Реденс, Иван Аллилуев, Зураб Мголоблишвили… Для чего послал его Сталин в Стокгольм? Следить за полпредом? Или с тайными поручениями, исполнить которые, по его мнению, она сама не способна? Эти вопросы мучили ее, и ответа на них она не находила. Но одно не вызывало сомнений: появился прямой канал связи с вождем, до которого она могла довести информацию, не подходившую ни для официальных, ни для личных писем. Какая-то неведомая сила побуждала ее к тому, чтобы в присутствии Канделаки все время доказывать свою лояльность. Больше того – личную преданность Сталину и его политике… Чтобы сблизиться еще больше с этой полезной семьей, Коллонтай под началом доктора Бубновой создала «Линию-клуб», который, согласно его «устава», имел целью «сохранение линии, а также исправление испорченной; возбуждение аппетита и обмена веществ, при одновременном обмене мячами; физкультурное времяпрепровождение и сближение членов клуба (до определенных границ)». Экспертом и казначеем клуба была определена совсем юная дочь Канделаки – Тамара, а почетным членом клуба – кот Канделаки по имени Васька – «вследствие образцового умения обращаться с мячом». Таким образом, ни один член семьи Канделаки не был забыт, каждому нашлось подобающее ему почетное место. Следует ли удивляться, что титул «мисс Линия» достался Тамаре, а титул «мистера Линия» ее отцу…» [20].
Новым торгпредом в Швеции стал Лазарь Леонтьевич Непомнящий, который впоследствии сменил в Германии отозванного в апреле 1937 года Канделаки. Торговая активность СССР в Швеции с декабря 1934 года (назначения нового торгпреда) резко пошла на убыль: «15 февраля [1934 года]. Торгпред обеспокоен: намечается сильное сокращение торгпредства. Недоучет развития торговых связей со Швецией и вообще со скандинавами… Сокращение торгпредства – это утрата всех тех нужных связей (нужных именно в момент войны), которые мы с таким трудом налаживали все эти годы. Недоучет значения крепких экономических связей со Швецией. Наши отношения с Финляндией ухудшились. Тем более важно иметь базу здесь.» [8]
30 сентября 1937 года А. М. Коллонтай сделала запись в дневнике о полученном ею в Женеве известии об аресте Д. В. Канделаки: «…Обычно я люблю суету больших вокзалов, как в Базеле. Выпить, стоя у буфета, чашку горячего кофе, купить огромную ароматную грушу „бере“ и запастись газетами на разных языках на дорогу. Но сегодня боюсь газет, еще больше расстроюсь, опечалюсь. Последнее, что сказал мне Суриц в „Ричмонде“, это, что Д.В. снят с работы и арестован. Он, который пользовался „особым“ доверием… Нехорошо на душе, холодно и жутко… И я хожу по базельскому вокзалу и чувствую до жути холод в сердце. Тяжелое, тревожное время, как сказал Литвинов. Да, такой напряженной атмосферы я не помню. Многое неясно, запутано, темно. Но одно ясно: наши подлые враги, Берлин да и другие, сумели развить широко и глубоко свою подрывную работу. Перед их злоумышлением и коварством бледнеют все происки и интриги дворов папы в Риме в былые времена или коварство и двуличие дворов Медичи с их отравленными перчатками и кинжалом в спину. Иезуитская работа при дворах абсолютных монархов Европы времен Возрождения кажется детской игрой. Процветают двуличие, коварство, строятся козни и заговоры. И пошатнулось самое ценное – моральная вера в друзей… Газет я просто читать не могу, сплошная ложь и клевета. Вот уже снова пишут, что меня отозвали, и что вместо Москвы я убежала куда-то за границу. А в другой – Литвинов впал в немилость. Злятся империалисты, что карты раскрыты и что злоумышления их не удались (как же иначе, ведь Александра Михайловна готовила все это для публикации в … 1972 году – прим. авт.). Поезд подходит, и носильщик идет за моими вещами. В путь на Берлин – противное стало слово.» [8]
Принято считать, что причина ареста и расстрела Канделаки выражена в эпиграфе к данной статье. «… был арестован Давид Канделаки, только что получивший повышение по службе, сменив пост торгпреда в Германии на пост заместителя наркома внешней торговли. Никакого сомнения не было: его «повысили» лишь затем, чтобы заманить в Москву… (Канделаки не было нужды заманивать в Москву. Он был отозван из Германии вместе с полпредом Я. З. Сурицем в самом начале апреля 1937 года и уже 3 апреля имел встречу со Сталиным в его кабинете в Кремле. В это время Канделаки, с чувством честно выполненной порученной ему работы, и подумать не мог, что случится в сентябре этого же года. Да и действительное (не фиктивное, для заманивания) назначение его заместителем наркома НКВТ опровергает тезис о заманивании – прим. авт.) «Следствие» по делу Канделаки тянулось полгода срок редкий для тех времен. Когда речь шла о людях из самого близкого его окружения, Сталин не слишком спешил с завершающей «следствие» пулей. Все те, с кем Канделаки был дружен, родственники Сталина прежде всего, уже пребывали в лубянских камерах или ждали ареста. Канделаки был обречен хотя бы потому, что был слишком близок к тирану и знал то, что не должен был знать никто. По той же причине был так зверски уничтожен в Швейцарии порвавший с Москвой советский агент Порецкий-Рейс: он был в курсе тайных переговоров, которые вел Канделаки с гитлеровской верхушкой, и собирался предать их огласке. Как это часто тогда практиковалось, вмененные в вину Канделаки факты частично имели место, но не содержали никакого предательства, поскольку он действовал по личному указанию Сталина. «Установил связь с фашистскими кругами в Германии…» Действительно, установил – встречался даже с самим Герингом (это ошибка: Канделаки встречался лишь с его двоюродным братом Гербертом – прим. авт.), но отнюдь не по заданию «врага народа» Пятакова, а по заданию «отца всех народов» Сталина. И выгодный Германии торговый договор заключил (не заключил, так как немцы не соглашались поставлять в СССР товары военного назначения – прим. авт.), конечно, не по своей воле, а все по той же, по той же… " [20].



