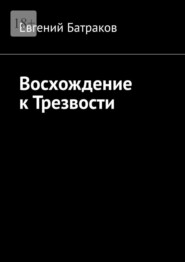скачать книгу бесплатно
Так чем же определяется ценность?
Целью.
Ценности бывают материальные и духовные.
Ценности можно различать, как мужские и женские. Например, помада для женщины – ценность, т. к. она с помощью помады может создать определенный образ и далее, уже с помощью этого образа, достичь некую цель. Для мужчин помада ценностью не является: гайки ей не смажешь, на ватмане вместо маркера не попишешь.
Если же нам некто скажет: ну, ребята, додумались – писать на ватмане помадой! Вы губы намажьте!
Что мы на это скажем? А мы скажем: да, нам как-то стыдно, понимаешь ли… Даже если вокруг никого нет.
Стыдно!
Стыд, по утверждению Аристотеля, «определяют как своего рода страх дурной славы» [3].
Об этом же и Платон: «Боимся же мы нередко и общественного мнения, как бы нас не сочли за дурных людей, если мы совершаем или говорим что-либо нехорош ее. Этот вид страха мы да, думаю, и все – называем стыдом» [4].
Таким образом, стыд, – как некто сказал еще проще, – это страх наказания.
Стыд – это страх наказания, возникающий и при попытке воспользоваться чужой ценностью. Например, если где-то в общественном месте мы, глядя на бесхозную вроде бы вещь, подумаем: а не прихватить ли ее пока никто не видит, – то у нас появится беспокойство, напряжение, страх. Почему? Потому что эта вещь – не наша ценность.
Ценности, опять же, не мы сами выдумали, мы их получили в готовом виде от папы, мамы да от значимых для нас людей.
Разные ценности у людей пьющих и трезво живущих. Например, для пьющих людей бутылка со спиртным является ценностью. Если мы зайдем в гадюшник – в пристанище зеленого змия, в заведение по торговле чертовым зельем, – то мы увидим: бутылки принаряжены фольгой, этикетки расписные, названия броские, пробки винтовые, формы замысловатые, стекло цветное… Так не только маскируется голый крючок под названием «наркотический яд», но еще и привлекается внимание падких на внешнюю мишуру.
Сам процесс распития спиртного для людей пьющих также является ценностным. Трезвость для них ценностью не является.
Вот хорошо известный пример: если человек попадает в застолье и не пьет, то присутствующие это уловив, тотчас с тревогой начинают вопрошать:
– А ты че не пьешь?!
– Да я вообще трезво живу.
– У-а?! Как это – «трезво»?! Ты что – заболел??..
Они согласны, что «до соплей» пить – скверно, но и жить трезво – такое у них в головах просто не укладывается…
А вот если в компанию пьющих попадает просто «завязавший», то он там не скажет, что он трезво живет. Нет! Он вынужден лукавить, он начинает прикидываться пьющим, он говорит: «Да я пока не хочу»; «Да я за рулем»; «Да у меня печень» и пр.
Почему он себя таким подает? А потому что ему стыдно признаться в своей, пусть в вынужденной, но трезвости. Он же воздержанник, т. е. человек просто завязавший. Трезвость – не его ценность, трезвость – чужая для него ценность.
С другой же стороны, убежденному трезвеннику даже просто сидеть в компании отравляющихся алкоголем – тоже стыдно. Не за то, что он трезвенник, но за то, что вынужденно или случайно вляпался во что-то неприличное.
Таким образом, у нас есть три уровня психологической защиты: убеждения, эмоции и ценности.
Каков же практический смысл этих наших теоретических представлений?
Существует такая мифологема: если человеку просто рассказать правду об алкоголе, то он тотчас и непременно бросит пить. Навсегда.
Да так ли это?
Разве пребывают в невежестве касательно негативных последствий потребления алкоголя эксперты в области общественного здравоохранения, врачи, диетологи, фармацевты? А ведь и они не чураются стопки-другой по тому или иному случаю.
Разве скрыта правда об алкоголе от врачей-наркологов? Очевидно, нет. Но… неужто являются трудовые коллективы наркологических диспансеров вместе с тем еще и сообществами убежденных трезвенников?
Вопрос не смутит носящих белые халаты, как и утверждение: пьющий врач – это социальная патология. Хуже того, самый известный на сегодняшний день специалист в области алкологии, доктор медицинских наук, на тот момент ведущий научный сотрудник отдела наркологии Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ Александр Викентьевич Немцов не только сам не прочь выпить, о чем он неоднократно заявлял, но еще и подрядился питие пропагандировать?!
Не будем голословными. Вот только одна из многочисленных манифестаций его мировоззренческой аксиоматики: «Нельзя сказать, что алкология не замечает положительные эффекты алкоголя. И дело не только в возможном уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний при умеренном потреблении спиртного (например, одна рюмка в день). Главное – в его положительном эмоциональном воздействии» [5].
Каково?
И закончил свою статью Александр Викентьевич и совсем уж себя достойным образом: «Дурацкая антиалкогольная кампания умерла, и да здравствует разумная алкогольная политика» [6].
Заметьте: не противоалкогольная – алкогольная политика!
Подобным же образом доктор медицины Немцов отметился и на Радио Свобода в программе «Наши гости», в которой принимал участи также и известный сторонник нетрезвости, литературовед В. В. Ерофеев. Дабы явить свою осведомленность, ученый привел статистические данные: «…надо сказать, что уровень потребления очень высок – это 15 литров на душу человека. Соответственно, урон совершенно потрясающий, составляет он примерно 500—700 тысяч человек в год» [7].
И тут слово взял Лев Израилевич Ройтман – американский журналист, комментатор русской редакции Радио «Свобода»: «Мне вспоминается, что, когда Горбачев начал антиалкогольную кампанию, Виктор Некрасов, он был тогда жив и тоже жил в Париже, прислал мне для моей программы очерк, который заканчивался „За это дело стоить выпить“. Виктор Некрасов был очень даже не дурак выпить. Александр Викентьевич, я от всей души желаю Виктору Ерофееву успеха в том деле, которым он обещает заняться. Стоит ли выпить за успех этого безнадежного дела или не такого уж и безнадежного?»
Казалось бы, вот тут-то бы известному врачу и выступить в защиту утверждения трезвости?! Ан, нет – не выступил! Напротив, Александр Викентьевич угодливо солидаризировался со Львом Израилевичем: «Если 50 грамм, то можно».
Еще дальше пошел доктор медицинских наук, руководитель лаборатории токсикологии НИИ наркологии Минздрава РФ, профессор В. П. Нужный, который сам дома гонит самогон, сам его пьет, да еще и повсеместно пропагандирует: «Изучением токсических свойств алкоголя я вместе с сотрудниками лаборатории занимаюсь уже 20 лет. А изучением токсикологических свойств различных алкогольных напитков наша лаборатория плотно занялась в середине 90-х, для того чтобы проанализировать причины и факторы резкого роста случаев смертельных отравлений алкоголем.
Одновременно аналогичные исследования проводили Институт токсикологии в Санкт-Петербурге и Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН в городе Пущино на Оке.
Оказалось, что собственно самогон не имеет к росту смертности никакого отношения. Напиток, изготовленный путем дистилляции браги с соблюдением традиционных народных приемов, по определению не может быть токсичным» [8].
?!..
Ну, сказать, что профессор – идиот… Но ведь профессор же?!
Удивительно ли после таких-то перлов то, что бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой наркологии РМАПО Евгений Алексеевич Брюн (19 августа 2023 года задержан вместе с подельником Якушевым В. В., вице-президентом ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги по подозрению в мошенничестве, связанном с организацией закупок тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам) [9], считает, что «народ у нас пьет, поэтому его надо учить правильно употреблять алкоголь, с правильными закусками» [10]. Более того, принимая 16 июля 2018 года участие пресс-конференции Национальной Службы Новостей (НСН), психиатр-нарколог Минздрава Брюн призвал создать телепрограмму, обучающую искусству пития [11].
Не будем думать, будто бы утверждаемое Брюном – это некий шальной курьез. Отнюдь, идейно-теоретическая оснастка сегодняшних наркологов России – «плоть от плоти» тех наркологов, которые орудовали в стране еще в советские времена. В частности, один из ведущих наркологов СССР, профессор, доктор медицинских наук Э. А. Бабаян в своей книжке «Внимание: яд!», постулировал: «Когда, например, говорят, что к мясу „идет“ только красное сухое вино, а к рыбе и птице – только белое сухое, то это не прихоть гурманов, а результат давних наблюдений над тем, что приводит к большему, а что к меньшему опьянению. И пропагандировать такие „правила“ – значит содействовать борьбе с алкоголизмом, а не мешать ей» [12].
Ну, что тут скажешь? Впору только присесть от огорчения и заткнуться.
Так вот, правда об алкоголе – не гарант обретения трезвоумия и не аттестат, автоматически возводящий профана в статус сознательного трезвенника.
Почему же?
Ответ на этот каверзный вопрос нам и позволяет получить достигнутая нами осведомленность о психологической защите!
Нам уже известно, что ситуации, в которые время от времени попадает субъект, сотворяют стрессовое состояние, которое может представлять собой как кумулятивный, накопительный эффект, так и образованное за счет одного, но весьма значимого происшествия.
Нам также известно, что у человека имеется в наличии два склада информации: о вреде алкоголя и о пользе алкоголя. И проблема заключается в том, что когда вдруг человек ощущает настолько большое состояние неудовлетворенности, называемое иначе – состояние существенного психического напряжения, то возникает настоятельная надобность от этой неудовлетворенности избавиться. Как же это сделать? А что там думать – как? – все давно уже придумано: наливай и – пей!
И он пьет.
Отчего же только так?
А оттого, что, когда психическое напряжение (состояние неудовлетворенности) достигает определенной величины, оно включает тройную психологическую защиту. И доступа к информации о вреде алкоголя, о негативных последствиях пития в тот момент нет. Человеку плохо, а в голове только одна мысль: наливай и – будет лучше.
Что значит – «нет доступа»?
Кому не знакома неожиданная забывчивость? Иногда забываем чье-то имя-отчество, или номер телефона, или, решая кроссворд – слово, которое на языке вертится, но… И мы бросаем газету или журнал, и вдруг через некоторое время: о! вспомнил! То есть, информация в голове была, но, когда потребовалась – не осознавалась. Не было доступа.
А могла бы в этом случае нам помочь сила воли? Увы! чем настырнее мы стараемся вспомнить, тем надежнее ускользает необходимое. Подобным же образом дело обстоит и когда некто норовит не пить с помощью силы воли, с помощью самоконтроля. Впрочем, каприза ради, можно, конечно, и не пить, но ведь это ж противно человеческой природе: тебе плохо, есть рецепт: наливай и будет хорошо, и вдруг – не пить?! С чего бы это?
Таким образом, одна лишь воля на возможность отказаться от выпивки, как и на возможность перейти в категорию трезвенников, существенного и безусловного влияния оказывать почти не способна. Как, кстати, и обладание «правдой об алкоголе» – иначе вся наркологическая служба состояла бы исключительно из убежденных абстинентов. Однако же, реакция наркологов при возникновении состояния неудовлетворенности ничем принципиально иным от реакции пьяниц при возникновении подобного же состояния не отличается: и в тех, и в других срабатывает психологическая защита, блокирующая доступ к информации о вреде алкоголя, над наркологами также, как и над всеми иными людьми довлеют предписания алкоголизированных традиций, обрядов и ритуалов, и они привычно поднимают стакан с наркотическим ядом…
Далее, несколько штрихов к общему пониманию того, как образуется Я-пьющее.
Мы уже знаем: ситуация выводит из состояния равновесия, что ощущается как состояние напряженности, или, иначе говоря, неудовлетворенности.
Что мы, будучи детьми, в этом случае делали? Ну, например, упали с велосипеда. Мы могли поплакать, покричать на велосипед и даже попинать его. И все это приносило нам какое-никакое облегчение.
И все бы ничего, но тут подключились воспитатели. Мальчик упал с велосипедом, собрался было поплакать, а ему: «Ты что – девчонка, что ли?!» Устыдили. То есть, способ снятия напряжения с помощью плача – заблокировали. В другой раз, хотел попинать этот самый велосипед, а ему: «Не хорошо хулиганить». Хотел покричать: «Нехорошо так себя вести».
И при этом ребенок видел – и дома, и в гостях, и в кино, – как взрослые люди, в том числе, упавшие и павшие, банкроты и «сбитые летчики» использовали выпивку как способ устранения плохого самочувствия. И окружающими этот способ одобрялся. И ребенок, и мы, будучи детьми, все это видели и под влиянием виденного, как установил автор концепции питейной запрограммированности, кандидат биологических наук Г. А. Шичко, мы, «настроились на употребление в дальнейшем спиртных напитков. <…> Тогда же или несколько позже начала формироваться программа потребления алкоголя, предусматривающая ответы на такие вопросы: что пить? сколько? когда? в какой обстановке? с кем?» [13]. И уже далее, «на основе ложных проалкогольных сведений и представлений вырастает питейное убеждение [14]».
И далее, под влиянием питейного убеждения и приятелей, нас окружающих, мы однажды выпили. Потом еще раз, еще раз, а там и много-много раз….
Так в мозгу человека сформировалась структура, именуемая нами в дальнейшем, как Я-пьющее, и обретшая по мере того, как поглощение алкоголя становилось частью образа жизни, статус алкогольной доминанты (АД).
Понятие доминанты ввел в научный обиход в 1922 году русский физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский, определивший ее, как «господствующий очаг возбуждения, предопределяющий в значительной степени характер текущих реакций центров в данный момент» [15].
При этом Ухтомский указал и на основные черты доминанты:
1. ее возбудимость, т. е. способность активизироваться в первую очередь при возникновении определенных переживаний и воздействии на человека определенных раздражителей;
2. способность очага подпитываться посторонними импульсами, суммировать поступающие возбуждения и тормозить их источники: «…в связи с формированием доминанты к ней как бы утекает вся энергия возбуждения из прочих центров, и тогда эти последние оказываются заторможенными вследствие бессилия реагировать» [16].
К особенностям алкогольной доминанты также можно отнести то, что по мере увеличения степени ее возбуждения, происходит усиление концентрации внимания на алкогольном моменте, а ко всему прочему человек теряет интерес.
Важно также отметить, что по мере практического приобщения человека к алкоголепитию, между алкогольной доминантой (внутренним состоянием) и рецептивным содержанием – комплексом раздражителей в виде слов, имеющих отношение к алкоголепитию – «праздник», «пятница», «рыбалка», «баня», – как и сама бутылка со спиртным, как и звучащие предложения выпить – устанавливается прочная рефлекторная связь, при которой каждый из контрагентов (внутреннее состояние и внешний образ) вызывает и подкрепляет исключительно друг друга [17].
Помнится, лет 30 тому назад в какой-то деревушке я услышал престранное: «После вашей антиалкогольной лекции только выпить захотелось». В то время данное заявление представлялось мне совершенно невразумительным. Однако же когда через несколько лет после этого случая познакомился с работами А. А. Ухтомского, все обрело смысл.
Что такое антиалкогольная лекция? Это фактор, который приводит в возбужденное состояние ту часть личности, которую мы обозначили как Я-трезвая. И эта энергия возбуждения, согласно теории Ухтомского, подпитывает доминирующий в данный момент очаг – Я-пьющее, при этом и в силу этого Я-трезвое оказывается заторможенным и бессильным реагировать.
Вот, отсюда и фраза: «после лекции – выпить захотелось».
Кстати, вспомним: пища возбуждающая – соленое сальцо, огурчики, капустка, грибочки, селедка и т. п. – жажду выпивки разжигает, алкогольная же доминанта, в свою очередь, желание жрать – усмиряет: человек три дня пьянствует и три дня ничего не ест. Очаги пищевого возбуждения алкогольную доминанту подпитывают, она же их, в свою очередь, успешно тормозит…
Страшная картина.
Спрашивается, что же делать? Выходит, ведь, что не только сила воли тут бессильна, но и правда об алкоголе немощна?..
Мы используем такие понятия, как Я-пьющее и Я-трезвое, представляющие собой части личности. Соответственно, кроме частей, есть еще и сама личность, понимаемая нами не только как целокупность элементов, но и как «высшее Я», как некий центр самосознания. Исходя из этих соображений, дабы было проще понять проблему, над которой мы сейчас размышляем, упростим существа вопроса – абстрагируемся от психологических референций и физиологических материй, схематизируем рассматриваемое – представим его в виде метафоры: назовем наше «высшее Я» – Директором, а части – «Я-пьющую» и «Я-трезвую» – его заместителями.
Я-пьющая те проблемы, которые время от времени появлялись, устраняла. С помощью выпивки. И все бы хорошо, да только вот однажды Директор проанализировал состояние дел, и обнаружил: после этих устранений, как следствие, образуется уйма побочных негативных эффектов – и на работе, и в семье, и со здоровьем… Как говорят: лечение хуже болезни.
И тогда Директор обратился к своему второму заместителю (именно это и должен сделать каждый человек, нуждающийся в изменении своего образа жизни!): а нельзя ли как-то проблемы устранять, например, снять напряжение – расслабиться, но без алкоголя?
Оказывается, можно – ведь в далеком детстве Директор как-то обходился же без бухла?! Он мог поплакать, попинать «велосипед», покричать, наконец. Да, мало ли? Вот и оказывается, что человек нуждается не в алкоголе, и даже не в «правде об алкоголе», а в безалкогольных способах устранения своих неудовлетворенностей! И не просто в безалкогольных способах, но в таких, которые были бы лучше, чем самоалкоголизация.
Еще одна метафора. Представьте, что вы ходите в магазин за хлебом, и тратите на дорогу 15 минут. А тут ваш сосед вам говорит: «Слушай, а я к этому магазину дорожку нашел меж домами и трачу на путь всего 7 минут!» Если вы узнали, что есть путь в 2 раза короче прежнего, сможете себя затолкать на дорогу старую?
Нет. Невозможно. Мы без сознательного насилия над собой не можем действовать против очевидной логики и рациональности. Абсурдно тратить впустую время, если можно без этого обойтись. Но для того чтобы мы могли поступать рационально и разумно, нужно предварительно включить свой собственный аналитический ум, и не только наметить новый вариант поведения, но еще и обнаружить в нем определенные выгоды. Выгода – самый красноречивый и убедительный аргумент!
Вместе с тем, очень важно овладеть еще и языком трезвых людей. О чем тут речь?
Врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук А. П. Сугоняко утверждал: все те, кто стал мыслить понятиями и категориями человека, соблюдающего трезвый образ жизни, смогли избавиться от алкогольной зависимости [18]. Вспомним в этой связи еще и об этом: «В начале было Слово» (Ин. 1:1).
Слово, понятия и категории – «кирпичики», из которых складывается интегральный образ мира, определяющий, в свою очередь, реакцию и на простую житейскую ситуацию. Для человека пьющего такой «кирпичик» как слово «водка» означает «напиток», «средство, с помощью которого можно повеселиться, расслабиться, согреться»… Для сознательного же трезвенника слово «водка» означает «воду, отравленную алкогольным ядом», «жидкость, разрушающую человека, извращающую мир его смыслов»…
Наверно и об этом тоже историк, доктор философских наук Борис Григорьевич Кузнецов (1903—1984): «…нельзя забывать, что, когда два человека говорят одно и то же, они говорят не одно и то же» [19].
Одни и те же слова и – разный смысл…
Слова – аватары, заместители мыслей, мысли – кровь мышления, с помощью которого мы все ставим да мусолим этот прекаверзнейший вопрос: «Пить или не пить?».
Не пить?
Да, хорошо бы не пить… Ведь, казалось бы, чего проще – не пить, коль каждый знает, все знают: алкоголь – яд?!
Все знают?
Да, действительно, все знают, но… они не понимают, что алкоголь – яд. Дело в том, что знать и понимать – это разные вещи. Приведу пример из своей практики.
Несколько лет тому назад у меня проходил противоалкогольный курс 32-летний парень, врач-кардиолог со станции скорой и неотложной медицинской помощи. Так вот, после третьей встречи он приходит, да и говорит:
– Евгений Георгиевич, так ведь алкоголь – яд!?
– Да вы что?!
– Точно!
– А как вы узнали?
– А вот вчера иду я после нашего занятия домой и думаю: «Ну, а если ребенку водки-то дать со стакан, ведь помрет же?»
– Ну, конечно, помрет.
– Так, значит, яд?!
– Ну, конечно, яд!