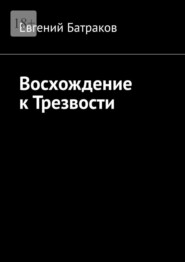скачать книгу бесплатно
За французских коммунистов
Выпил наш пенсионер.
Детская книжка… Читай и – бери пример.
Или вот еще «шедевр», которая создала поэтесса Елена Благинина. Тоже – для детишек [10]:
Потом присел на табурет
Веселый человек,
И вынул трубку и кисет
Веселый человек…
И я уселся рядом с ним,
И я глядел на сизый дым,
И я завидовал ему,
А больше никому!
Если ребенок завидуеткурильщику, когда чуть подрастет, будет он курить или нет? Социологические исследования говорят: основная причина того, что дети начинают курить, является подражание взрослым.
Далее, фильм-сказка режиссёра Г. Васильева «Василий Буслаев» (1982). Чрезвычайно вредный фильм! Как там былинный-то герой набирал себе храбрую дружину? А очень даже простецким образом: одолеешь братину вина – ну, это такой ковшичек примерно на полведра, что соответствует 2-ой стадии алкоголизма, – одолеешь братину вина – достоин быть в дружине, достоин защищать Отечество. Алкоголик – достоин, не алкоголик – не достоин?
Вы представляете, как такой фильм, словно страшный снаряд бьет по общественному сознанию, работает против нашего Отечества, против тех, кто смотрит эту киноленту, которая разрушает все представления о зле и добре, переворачивает все представления с ног на голову?!
А вспомните фильм режиссера С. Бондарчука «Судьба человека» (1959), где Андрей Соколов произносит пресловутую фразу: «После первой – не закусываю!» Я думаю, что мало, кто из посмотревших этот фильм не повторил потом услышанное. А как же не повторить, нам ведь для того и демонстрируют, чтоб мы все это повторяли.
Еще фильм – «Доживем до понедельника» (1968). Режиссёр С. Ростоцкий. Это один из лучших наших фильмов. Центральная фигура в фильме – учитель истории Илья Семёнович Мельников (В. Тихонов), человек честный, смелый, принципиальный, бывший офицер-фронтовик. И вот, этот эталонный для детей герой в минуту тяжелого переживания, сидя на кухне за столом, просит мать – «Дай водки», наливает стакан водки и – выпивает. «У юношества, – писал в свое время педагог В. А. Сухомлинский, – этот стакан водки вызывает особое восхищение» [11].
Ну, не только восхищение вызывает этот стакан водки, но и желание подражать. И будьте уверены, если у молодого человека в жизни возникает ситуация хоть чуточку похожая на минуту тяжелого переживания, его подсознание услужливо подскажет самый простецкий выход – стакан водки.
Значительное участие в программировании людей на питие и курение принимает и литература. Причем, делается это иногда очень даже малозаметно. И, конечно же, сам автор, пьющий и курящий, даже и не подозревает что он делает.
Вот, например, произведение «Суд» В. Ардаматского [12]: «Все было по-простому: водочка, шпроты, масло и черный хлеб…»
Чувствуете? Не водка, не водяра – водочка. Нежно, лаково, любовно. Шпроты, почему-то не названы шпротиками, масло – маслицем, хлеб – хлебушком [13].
И еще в этом же произведении: «Сидели рядышком на берегу, поглядывали на струны заброшенных в озеро донок и попивали с растяжкой бутылочку коньячку…» <…> «Они зашли в шашлычный павильон, захватив с собой бутылочку коньяку». <…> «Поставив на стол бутылочку, играли сперва по копейке…»
Не бутылку – бутылочку…
И вот, и мы, и дети наши, и не наши все это читали, смотрели и слушали. Мы подрастали, смотрели и видели, что наш любимый герой Штирлиц пьет и курит, папа – курит и пьет, мама прикладывается… И мы начали им по-дра-жать, мы начали копировать виденное. Сначала мы копировали только внешнее: брали веточку и изображали курение или пили воду и изображали пьяного. Мы – играли, но мы были уже обучены пить и курить, наш мозг был уже запрограммирован на питие и курение! И нам только осталось попасть в реальную ситуацию, испытать реальные ощущения для того, чтобы мы реально выпили или закурили.
Вот и спрашивается: имеяположительное отношение к питию, считая, что алкоголь положительно влияет на самочувствие человека, зная, что пить, как и когда и считая, что пить нужно, потому что так принято, и это одобряется обществом, может человек избежать приобщения к алкоголепитию и прожить жизнь в трезвости?
Да имея подобное умственное расстройство, совершенно невозможно пройти мимо стопки с алкогольным зельем, а вляпавшись в ритуально-традиционную процедуру пития, вызволить себя из оной! И многие мимо «чаши» не пронесли себя. И выпили. Потом еще раз, еще раз и много-много раз еще. И в результате удавка постыдной зависимости в форме привычки воздействовать на свое психическое самочувствие с помощью алкоголя – нейротропного наркотического яда, укрепилась, впилась в человечью натуру намертво…
…Так если не условия существования – причина влечения к смертоносному алкогольному яду, то что?!
Литература:
1. Книга о вкусной и здоровой пище. – М.: Пищепромиздат, 1954. – С. 79.
2. Сообщение Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР // Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР. – 1946. – 2 августа. – №181 (9097). – С. 4.
3. Александров К. Предатель или порядочный солдат?
https://his.1sept.ru/articlef.php?ID=200500309
Дата обращения: 4 мая 2023 г.
4. Цит. по: В. М. Хвостов. Этика человеческого достоинства. – М.: Совершенство, 1998. – С. 10.
5. Леопарди Д. Этика и эстетика. – М.: Искусство, 1978. – С. 176.
6. Приведенная информация является вольным пересказом фрагмента лекции «Воспитательная работа в борьбе за трезвость», прочитанной в мае 1986 г. в одном из цехов Владивостокского механического завода лектором Приморского краевого общества «Знание», кандидатом педагогических наук М. И. Коваленко.
7. Там же.
8. Госдума ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака
https://www.newsru.com/russia/11apr2008/voz.html
Дата обращения: 9 мая 2023 г.
9. Михалков С. В. Дядя Степа. – М.: Малыш, 1987. – С. 82.
10. Благина Е. Веселый человек. – М.: Детская литература, 1979.
11. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива. – М.: Молодая гвардия, 1975.
12. Ардаматский В. Суд. – Роман-газета. – 1987. – №17 (1071). – С. 65, 26, 44, 117.
13. Цитата из книги: Ю. А. Соколов. Трезвость. Противокурение (Методические рекомендации). – Л., 1989.
Глава II. Мера выпитого – мера ненависти
Вы поставили перед собой цель – отказаться от спиртного, поскольку от поглощения этой, чужеродной для организма жидкости уж слишком много нежелательных последствий. Однако, чтобы не было последствий пития, нужно чтоб не было поступков с этим питием. Значит, нужно изменить поступки.
Как?
Современный рынок предлагает многое: таблетки, травы, рефлексотерапию и прочее, фактически, никоим образом не способное повлиять на причину совершения поступков, которая имеет информационную природу.
Так как же изменить информацию, лежащую в основе поступков, понимая, что изменить информацию можно только с помощью информации?
Так нужно просто рассказать правду об алкоголе и – все! Однако ж парадокс заключается в том, что правда об алкоголе у вас уже есть. А у наркологов ее и того больше. И вы, и наркологи – все вы знаете, что алкоголь – яд и… этот яд употребляете. Не только вы, но и наркологи.
Парадокс?
Дело в том, что в голове каждого человека есть информация не только о вреде, но и пользе алкоголя: «Чтобы расслабиться – выпей», «Нужно взбодриться – пей». Простыл – водка с чем? С перцем. Кто этого не знает? А понос? Водка с солью. Подобных «рецептов» – тьма.
Так вот, когда человек тянется за первым стаканом, в этот момент он опирается не на информацию о вреде алкоголя, но на свои представления о несомненной пользе алкоголя – если выпить, то будет легче и лучше. Хоть на полчаса, но – будет.
Так, почему же вся та страшная правда об алкоголе, которая у человека также есть, в этот самый момент, когда он тянется за стаканом даже не осознается? Он вспомнит о вреде алкоголя в лучшем случае утром, когда опять будет чувствовать себя скверно. Подозреваю, что это означает только одно: некий психологический механизм не вытесняет из сознания информацию об опасности алкоголя, а не допускает ее до осознания.
Что же это за механизм?
Будучи скорее практиком, нежели теоретиком, я обнаружил то, что было мною определено как психологическая защита. Не в психоаналитическом смысле, т. е. не как защита Я от импульсивного Оно, которое стремится прорваться в сознание, путем преобразования возбуждений в тревогу, и не защита Я от указующего перста Супер-Эго, но защита части Я – Я-пьющей от Я-трезвой, притязающей на господство.
Пить – это позиция Я-пьющей. И для защиты этой позиции у нее имеется целых три уровня психологической защиты.
1-й уровень – воспоминания о приятных переживаниях, появившихся после употребления спиртного, т. е. эмоции.
Вот, вы алкоголь употребляли и бывало ж приятно? До пития – хреново, выпили – вроде лучше стало, вроде легче стало. А с эмоциями спорить сложно, иногда вообще невозможно. Не зря 350 лет тому назад Франсуа де Ларошфуко в своих «Максимах» утверждал: «Ум всегда в дураках у сердца».
Положительная эмоция, которую мы переживали в первые 15 минут после употребления алкоголя, работает как фильтр: пропускает то, что позволяет пережить эту же эмоцию удовольствия, и отвергает все то, что препятствует тому, чтобы ее пережить вновь.
2-ой уровень защиты – убеждения. Например, убеждения в том, что с помощью алкоголя можно снять стресс, согреться, расслабится, взбодриться, повеселиться… Причем, эти наши убеждения не совсем наши, т. к. мы получили их в готовом виде в возрасте до 5 лет от самых дорогих для нас людей: папа, мама, дедушка, бабушка…
И как эти убеждения функционируют как защита?
Например, выступает академик Ф. Г. Углов – так и сыплет аксиомами: спирт – яд; спирт – приводит к раку желудка, к язве, гастриту и панкреатиту; употреблять спиртное – пиво, вино, водку – недопустимо. Ни в каких дозах. В том числе, для поднятия аппетита…
В общем, все совершенно привычное и бесспорное. Но – у нас в памяти есть «воспоминание» – беру в кавычки, чуть позже причину объясню, – «воспоминание»: нам было годика 2—3, 4—5, мы ходили по квартире, а на кухне – папа и сосед. Сели покушать.
А сосед вяло как-то так, вилкой ковыряет – аппетита нет.
Тут папа: «А давай, для аппетита?».
Сосед: «Не возражаю!».
Папа – плеснул.
Сосед – выпил: «Ух, ять, храшо пошла! Теперь-то и закусить не грех!».
А мы ж рядом были? Рядом. Значит, этот рецепт, касающийся повышения аппетита с помощью выпивки, у нас голове уже есть.
Коль так, то поставим вопрос ребром: как вы считаете, по степени авторитетности чья информация для вас сейчас более весома – та, которую вы тогда получили от отца или та, которую вы сегодня получаете от академика?
Конечно, та, которую получили до 5 лет. Потому что так мы устроены: информация, полученная нами от наших родителей, информация, полученная до 5 лет – самая важная на свете информация. И выходит, что информация, поступающая от академика,противоречит той информации, которую мы получили в возрасте до 5 лет. И поэтому, именно поэтому мнение академика отвергается – не воспринимается. По этой же причине не способны влиять на наше поведение ни наши собственные решения «завязать», ни нравоучения жены, ни угрозы работодателей…
Так информация, полученная в детстве, проявляет себя, как второй уровень психологической защиты.
Выше слово «воспоминания» я взял в кавычки. Почему? Дело в том, что если вы попробуете, а вы наверняка пробовали – вспомнить события своей жизни в ясельном (до 3 лет) и в дошкольном периоде (до 7 лет), то у вас это, скорее всего, не особо-то и получится. Потому что этого не позволит сделать инфантильная амнезия, «которая, – как писал З. Фрейд, – у большинства людей (но не у всех!) покрывает их раннее детство до шестого или восьмого года жизни» [1]. Однако – и на это также обратил внимание великий психоаналитик – «те же самые впечатления, которые мы позабыли, тем не менее оставили после себя глубочайшие следы в пашей душевной жизни и оказали решающее влияние на наше дальнейшее развитие. Речь, следовательно, идет вовсе не о действительном разрушении детских впечатлений, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюдаем у невротиков в отношении более поздних переживаний и сущность которой состоит просто в недопущении в сознание (вытеснении)» [2].
То есть, информация, полученная в возрасте до 7 лет не утрачена, ее физическая основа не разрушена, наша память того периода проста заблокирована. Память заблокирована, но информация, которую мы получали в том возрасте, не только сохранена, но и управляет нами сегодняшними.
Не откажу себе в удовольствии подтвердить вышеизложенное примером из собственной практики.
Несколько лет тому назад я работал с Геннадием Петровичем – водителем из местной телерадиокомпании, который на свое 50-летие решил сделать себе драгоценный подарок – обрести свободу от курения.
В первую же встречу на мое предложение перечислить, в каких ситуациях сегодня были выкурены первые три сигареты, он сказал: первая сигарета была утром: ждал, когда чайник закипит; вторая – в гараже: ждал, пока прогреется мотор машины; третья – ждал, пока корреспондент возьмет интервью.
Казалось бы, совершенно разные ситуации – и это действительно так, но в каждой из них присутствует один и тот же компонент – ожидание. Конечно, мы все ждать и догонять – не любим, но Геннадий Петрович, как я заметил, не любил этого чрезвычайно. Мне же для нашей дальнейшей работы было важно выяснить, когда и как он этому научился. Он же не родился с такой реакцией на ожидание? Была использована психотерапевтическая техника «Изменение личностной истории», с помощью которой мы, отталкиваясь от здесь и сейчас переживаемого, погружаясь в прошлое, воскресили ассоциативный ряд подобных же переживаний. Последним – самым ранним – переживанием в этой цепи, которым отозвалась его психика, был случай, когда 5-летнего Гену родители поставили в угол. И он стоял в углу и ждал, когда же ему разрешат выйти. А поставили в угол, как он считал, ни за что, и ожидание было долгим, очень долгим. И обида, возникшая у малыша там и тогда, была столь велика, что распухла до уровня настоящей психотравмы.
Вот с тех-то самых пор и стал Геннадий Петрович относиться к ожиданию, к любому ожиданию, как к фактору, который словно камертон, входил в резонанс с тем, далеким, вытесненным в темные «джунгли» подсознания, событием… И психическое напряжение становилось причиной актуализации условного курительного рефлекса, чтобы с помощью процедуры курения и поглощаемого сигаретного дыма, обладающего парализующим эффектом, понижать уровень тревожности.
Я постарался изменить отношение моего клиента к ожиданию настолько, насколько это было возможным и не выходящим за рамки вполне терпимого.
Наша очередная встреча с Геннадием Петровичем началась с моего вопроса: «Когда сегодня была последняя сигарета?» На что был ответ: «А я после вчерашней нашей встречи больше не курил»…
Что произошло? Я убрал негативное отношение к ожиданию, как к фактору, который Геннадия Петровича напрягал в разных ситуациях и провоцировал курение. Устранение фактора привело к исчезновению надобности в курении. Конечно, наша работа по демонтажу никотиновой зависимости на этом не закончилась, но закончилась тирания застарелой психотравмы.
Таким образом,
1. мы видим, как неосознаваемый, совершенно забытый случай способен создавать психическое напряжение и управлять нашим поведением;
2. мы видим, как информация, которую мы когда-то впитали, и которую мы даже не помним, управляет сегодня нами так, что даже доводы, в том числе от академика поступающие, нам не указ, не руководство к действию.
И, наконец, 3-й уровень психологической защиты – ценности.
Я спросил своего клиента:
– У вас есть ценности?
– Есть, – уверенно ответствовал он. – Деньги.
– А почему деньги – ценность?
– Потому что я их заработал.
– Ерунда, – сурово возразил я ему. – Не могут цениться деньги по вами названной причине.
Представьте такую ситуацию: вы деньги заработали, и храните их у себя дома. Причем, в 50- и 100-рублевых купюрах. И однажды вы уезжаете за товаром в Турцию. И в это самое время – 22 января 1991 года президент СССР М. С. Горбачёв подписывает Указ «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года». Конечно же, как было сказано в Указе: «…в интересах подавляющего большинства населения страны».
И вот это-то «подавляющее большинство населения страны» и оказалось вынужденным обменивать вышеуказанные купюры «на денежные знаки других достоинств и на банкноты 50- и 100-рублевого достоинства образца 1991 года».
Причем, в сжатые сроки – в течение трех суток. С 23 по 25 января.
А вы – в Турции?! И в эти трое суток вы, естественно, не вписались. И тогда ваши ценности – вами заработанные деньги, превратились в разноцветный мусор. И в первую очередь для вас! Потому что хождение их в качестве платежного средства прекращено…
Так что же такое ценность?
Ценность – это потребительское свойство средства.
Поясняю. У каждого из нас есть цели. Цели мы достигаем с помощью тех или иных средств. Например, цель – достичь состояния сытости – мы можем достичь с помощью такого средства, как большое, сладкое яблоко, а можем и с помощью шашлыка. И яблоко, и шашлык – средства достижения цели. Но при этом совершенно очевидно, что питательная ценность шашлыка будет гораздо выше.
Цель определяет средства, но не оправдывает! Поэтому сентенции глупой – «Человек ценен сам по себе», – мы можем противопоставить древнюю мудрость: человек стоит столько, сколько он отдал людям. Само по себе ничто ничего не стоит.
Возьмем производственные отношения. И для этого абстрагируемся от человека вообще и сконцентрируемся на одной из многих его граней – работник. Можно ли сказать, что на предприятии любой работник ценен сам по себе? Нет, конечно! Ценность работника определяется целью, а цель предприятия – получение прибыли. Следовательно, работник, работающий на эту цель хорошо – это ценный работник, а не очень хорошо – малоценный.