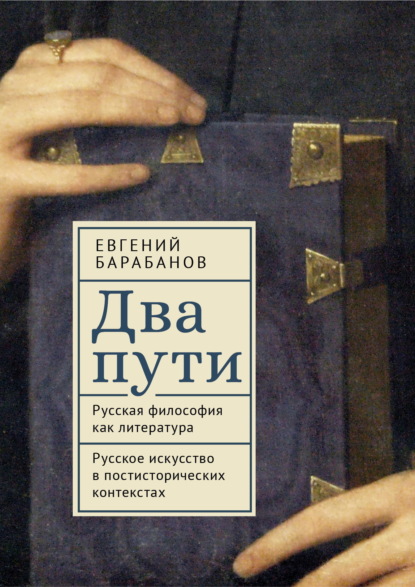
Полная версия:
Два пути. Русская философия как литература. Русское искусство в постисторических контекстах
Дары Духа персональны, они лежат в основе самой нашей способности мыслить о Боге, описать Его догматически, нужными, ответственными словами выразить нашу веру, коснуться нашей молитвы, запечатлевать их в «умозрении в красках», но в Церкви все это собирается вместе. В литургическом смысле Премудрость соборна, то есть, социальна, коллективна и коммуникативна: будь то формы организации общежительного монастыря, хозяйства, храмового или книжного знания. Премудрость есть и человеческая способность восприятия устроения мира, творения мира Богом и одновременно само это устроение, встреча с Ним «под грубою корою вещества» (Вл. Соловьев). Она – «не свойство отдельного человека, не результат его собственной интеллектуальной, практической жизнедеятельности, его усилий, но – свойство Бога, которым он одаривает человека». «Узнай себя», по слову св. Василия Великого, и в глубине, в тайне своего творения и призвания найдешь ту Премудрость, которую вложил в тебя Господь.
Но за иконой следует и антиикона, перед которой автор-созерцатель возвращается к своему призванию строгого критика. В блестящем эссе Философия снизу Барабанов анализирует процесс умирания советской философии и того, что рождается ей на смену. Он ставит перед ней и нами ряд вопросов, следующих из другого: «Ну как было не спросить себя: могу ли я именоваться философом, находясь на содержании репрессивного партийно-государственного аппарата? Могу ли я называть философским мышлением те обязательные процедуры соизмерения свободы мысли – не в печати, не в рукописи, не в диалоге, лишь в собственной голове! – с требованиями цензуры? Как это возможно: говорить о критической функции марксистской философии и – ни разу этой функцией не воспользоваться по отношению к повседневной бесчеловечности господствующей системы?». Ответ достаточно очевиден: советская философия, какая она была, выполняла заданную ей идеологическую программу, была частью всеобщего государственного плана, состоящего из марксистско-ленинского предвидения, сконструированного этой философией будущего и оценки ею настоящего, уже предрешенного. И в этой схеме советская философия была частью действующей власти и выполняла ряд ее функций. Но это лишь первоначальная социологическая ступень его критики, далее следует интереснейший анализ внутренних мотивов советских философов, когда сам их предмет вошел в стадию перестройки. Происходит то, что никаким планом не предусматривалось: исчезает идеологическое государство с его миражом будущего, но потом приходит другое, с его, условно говоря, воображаемым прошлым. Увлекаемая им мысль или, по крайней мере, то, что ею официально называется, вновь сливается с властью, даже перенимая какую-то часть ее идеологических функций. Программа меняется, лежащие под ней матрицы нет. «Снова – стремление вернуть философии партийность и массовость, соединить ее с идейной непримиримостью, с эстетикой монументальности и долгом служения народу. Снова – потребность очистить ортодоксию от ересей…».
Образы иные, образцы те же. Барабанов – человек, впитавший советский опыт, но не оставшийся его пленником, последовательно отказывается от смешения мысли с мифом, будь это предустановленный порядок советской философии или лозунге нации, с изображением русской идеи подобной купчихе на картине Кустодиева, словом, любая любезная нам идеологическая предзаданность, в скрепах которой тонет трезвый, иногда суровый взгляд на то, что автором было продумано и пережито. Впрочем, это лишь один из многих сюжетов этого великолепного текста, который на наш взгляд, должен остаться в нашей памяти как отпечаток чаадаевского наследия.
Автора никак не назовешь человеком, непомнящим родства, за всеми барабановскими работами слышен неслышный диалог с его предшественниками и учителями, диалог не ученический, но активный и творческий: с тем же Петром Чаадаевым, Виктором Несмеловым, Семеном Франком и просто любимыми авторами, З.Н. Гиппиус, В.В. Вейдле… Им в нашей книге посвящен ряд отлично выписанных, талантливых философских портретов, составляющих второй раздел этих избранных работ. Конечно, само это деление достаточно условно, все разделы перекликаются между собой. Так авторское предисловие к Письмом и заметкам из тюрьмы Бонхеффера или интервью После Освенцима вливаются в тему сопротивления злу, или скажем бердяевскими словами, трагической судьбы человека в современном: этой теме посвящен третий, публицистический пласт нашего издания, но сама тема пронизывает собой весь этот том.
Книга завершается обширным очерком о раннехристианской эстетике – в таких терминах можно было в советском университете говорить о патристике, не произнося такого слова. Здесь студенческая работа, написанная независимо от фундаментальных трудов А.Ф. Лосева, С.С. Аверинцева и других, обнаруживает, помимо прекрасной эрудиции, богатство и самобытность мышления ее автора в области, далекой от основных тем этой книги. Это своего рода академический background в самом начале его творческого пути, которому предстоят другие маршруты, но за спиной которого остается добрая, плотная святоотеческая почва. Давняя эта работа и сегодня отнюдь не утратила своего значения и вполне может послужить отличным введением для тех, кто в свете христианства хотел бы открыть для себя и его видение красоты.
Книга, как было сказано, открывается Заявлением, которое вводит нас в пограничную ситуацию человека, вставшего перед жестким бесповоротным выбором и в каком-то смысле обретающим себя в нем, становящимся собой в риске, мужестве, вызове, и завершается очерком святоотеческой эстетики, где мы оказываемся, если сказать словами Мандельштама, «под сводами седыя тишины» и дышим воздухом богопознания. При всей непохожести эти тексты создают, я бы сказал, «неявную гармонию» этой книги, которая по словам Гераклита, лучше явной.
Это небольшое, ничуть не исчерпывающее введение к первому тому работ Евгения Барабанова я хотел бы завершить личным признанием. Собирая тексты для этого сборника, я намеревался прежде всего отдать дань давней дружбе, но, перечитывая его работы, знакомые с молодости и уже полузабытые, я неожиданно открыл для себя оригинального и сильного мыслителя, оказавшегося для наших дней поразительно актуальным.
Свящ. Владимир Зелинский
«Мне нечего скрывать»
Заявление для прессы[1]
В ночь с 24-го на 25-ое августа Орловское управление КГБ произвело в моей квартире обыск. Искали антисоветскую литературу – ее не нашли. Вместо нее унесли мешок богословских книг, изданных за границей. С 27-го августа начались допросы у следователя О. Ф. Ильина. «Предварительным следствием убедительно доказано, что вы переправляли на Запад антисоветские материалы. Откуда у вас столько эмигрантских книг? Нам известно, что вы регулярно пополняли редакционный портфель журнала «Вестник РСХД»… Не улыбайтесь, дело серьезное…»
В ходе допросов вдруг всплывают слова, сказанные при закрытых дверях, называются имена друзей. Становилось ясным, что на протяжении нескольких месяцев каждый день мой был просвечен, просмотрен, выслежен. Я почувствовал азарт облавы: «Вы окружены, капитулируйте!» На один из допросов была вызвана моя жена. «Вина вашего мужа доказана, – сказали ей, – чистосердечное признание облегчило бы его участь». Я подумал: а в чем собственно моя вина? Почему то, что я делаю, превращает меня в преступника? Ведь речь идет о самом первичном, о самом существенном: о свободе читать и писать, о свободе мысли, о праве на самовыражение, без которых человек теряет себя и свою духовную сущность. Эта возможность неразрывно связана с возможностью передавать и получать любую информацию, если она не содержит военной тайны.
Речь идет о суверенности человеческой мысли и слова, утвержденной в Декларации прав Человека. Наше правительство подписало ее в числе других членов ООН. Советское законодательство также не запрещает те действия, которые мне пытаются вменить в вину. Наоборот, изъятие рукописи и преследование авторов, произвольные запреты на публикацию, воспрепятствование печатанию определенных произведений не только здесь, но и за рубежом, – это явно незаконные действия, которым должен быть положен конец. Травля свободной мысли, усекновение слова, превратившиеся у нас в порочную привычку, не могут быть оправданы ничем. Ссылка на идеологическую борьбу лишена смысла, если встать на правовую почву. Она действительна лишь для тех, кто хочет принимать участие в этой борьбе. Но я не давал идеологической присяги и не обязан обладать непременно официальными убеждениями.
Если государство не хочет публиковать то, что не входит в сферу его интересов, или не соответствует официальным концепциям – все издательское дело у нас национализировано – то по какому праву запрещает оно своим гражданам думать иначе, творить не как предписывается или читать то, к чему лежит душа. В условиях жесткой цензуры известная часть произведений всегда публиковалась за рубежом. В России, в царствование Николая I основные богословские труды Хомякова были напечатаны за границей. Такой же окольный путь к своему читателю порой вынуждены были находить Лев Николаевич Толстой, Владимир Сергеевич Соловьев. Тот факт, что произведения отечественных литераторов стали в наше время публиковаться за границей, сам по себе свидетельствуете рождении творчества, не укладывающегося в рамки дозволенного. Духовная энергия моего народа не подконтрольна официальным идеологическим инстанциям. Она неизбежно находит выход, и с этой исторической неизбежностью бессмысленно и преступно бороться. Вот почему, не имея возможности запретить людям писать, государственные органы направили свои репрессивные усилия на передачу рукописей.
Вот уже 8 лет, начиная с печальной памяти процесса над Синявским и Даниэлем, ведется борьба против вольного русского слова. Как и можно было предвидеть, эта борьба не увенчалась успехом. От попыток гашения дух разгорается только ярче и остается только поражаться неспособности гасителей усвоить эту истину, многократно подтвержденную историей. Сегодня мы уже вправе говорить о целой литературе, выражающей умонастроение так называемых «инакомыслящих». Но тяжела судьба авторов, еще тяжелей тем, кто посвящает себя тому, чтобы эта литература жила, публиковалась, распространялась, читалась. Большинство произведений, совершенно не защищенных авторским правом, попадают в пользующиеся дурной славой издательства, которые намеренно используют их в своих узко-политических интересах, а это, в свою очередь, оказывается удобным мотивом для возбуждения политических преследований и уголовных дел. Именно поэтому одна из задач, которую я перед собой ставил – оградить рукописи и документы от корыстных и спекулятивных манипуляций. Русский журнал «Вестник русского студенческого христианского движения», издательство ИМКА-пресс, к которым я обращался, не ставят перед собой никаких политических целей. С этим не может не согласиться любой непредубежденный читатель.
Мне нечего скрывать. О своих действиях я могу открыто сказать перед своим народом и перед миром. Пусть скрываются те, кто боится света гласности и преследует вольное слово. Я действительно передавал на Запад рукописи и документы, и делал это совершенно бескорыстно. Повторяю: мне нет дела до каких-то мифических, идеологических врагов, которым я, якобы, подыгрываю. До сих пор Запад предоставлял единственную возможность сохранить эти документы, спасти их от физического уничтожения или забвения. Я исходил при этом не только из своего права на свободную духовную ориентацию, но также из требования христианского долга и совести, ибо убежден, что подлинные духовные ценности не могут создаваться в атмосфере закрытости и дезинформации. Поэтому я считал и продолжаю считать переданные много материалы серьезным вкладом в сокровищницу русской культуры, русской мысли и самосознания. Вот почему я передавал рукописный журнал «Хроника текущих событий», свидетельствовавший о преследовании людей, которые отстаивали право на свою свободу и свое человеческое достоинство. Да, я передал не напечатанные здесь произведения великих русских поэтов: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Да, я передавал материалы по истории русской культуры, церкви, религиозной философии и неофициального богословия. В публикации неизданных трудов Николая Бердяева и мученически погибших отца Павла Флоренского и Льва Карсавина есть доля и моего участия. Да, я передал стихи Даниила Андреева и Анатолия Радыгина, запечатлевших трагический образ тюрем и лагерей нашего времени. Да, я передал тюремные дневники Эдуарда Кузнецова – человека поразительного мужества, принесшего себя в жертву ради права евреев эмигрировать в Израиль. Да, я передал фотографии современных преследуемых общественных деятелей и писателей, людей доброй воли.
Цель моего заявления – не самооправдание. Свой арест я буду считать актом грубого произвола. Но вопрос не обо мне только, но и о том, должна ли существовать русская культура вне зависимости оттого, одобрена ли она официальной идеологией и цензурой. Должны ли погибнуть рукописи, если их не хотят печатать здесь? Должны ли быть забыты люди, уже ставшие жертвами произвола? Допустить это – значит допустить оскорбление не только русской, но и мировой культуры. Мир не знал бы всей правды о нашей стране, всей сложности ее жизни, проблем ее духа, трагизма ее исторического опыта. Наше столетие лишилось бы какого-то своего смысла и глубины, если бы оно не вобрало в себя этот опыт. Я обращаюсь за поддержкой ко всем людям, независимо от их политических и религиозных убеждений. Я хотел, чтобы поняли смысл моей деятельности. Одна из серьезных угроз, нависших над миром, это постоянная тенденция к изоляции, к ложной секретности, к упрятыванию зла. Зла и насилия в мире было бы меньше, если бы все о них знали[2].
15-го сентября 1973 года
О заявлении евгения барабанова
15-го сентября 1973 года Евгений Барабанов сделал заявление, которое должно привлечь внимание всех честных людей, дорожащих свободой мысли. Привлечь своей смелостью и принципиальностью. Многие годы следствие и политические процессы вращались вокруг установления самого факта передачи материалов, и хотя фактическая сторона редко отрицалась подсудимыми, в болоте следственной фактологии вязла принципиальная сторона дела. И вот Барабанов задает простой вопрос: «А в чем, собственно, моя вина?.. Да, я передавал рукописи за границу… но весь вопрос в том, должна ли существовать русская культура вне зависимости оттого, одобрена ли она официальной идеологией… Зла и насилия в мире было бы меньше, если бы все о них знали». Мы полностью присоединяемся к мыслям, высказанным Барабановым. Со своей стороны мы заявляем, что мы тоже неоднократно поступали так же, и считаем это своим долгом.
19 сентября 1973 года
Григорий Подъяпольский
Андрей Сахаров
Раздел первый
Вокруг «русской идеи»
Pro et Contra
Отклик на издание сборника «Из глубины» в издательстве YMCA-PRESS
От того, как переживет свой теперешний кризис интеллигенция, от исхода борьбы происходящей в ее сердце, зависят во многом и будущие судьбы России.
С. Н. Булгаков – «На пиру богов» (стр. 148)Редчайшие экземпляры недавно переизданного сборника «Из глубины» уже достигли советской России. Книга, которая должна была появиться в России 50 лет тому назад, все же нашла пути к своей родине, своему читателю… Современное бытие подсоветского человека проходит под знаком катастрофы, разразившейся над Россией в 1917 году. Невозможно найти свое место в действительности, излечиться от болезней и изжить заблуждения, не разрешив прежде главнейших и мучительнейших вопросов, вопросов о смысле, духовной сущности и истинной причине русской революции. В том неумолимом процессе становления нового сознания и его кристаллизации сборнику «Из глубины» принадлежит роль, которую трудно переоценить. Сборник ценен не только как свидетельство очевидцев, переживших «минуты роковые», но и как опыт духовных вождей интеллигенции, собственной жизнью и творчеством преодолевших соблазны «князя мира сего».
Сейчас, так же как и пятьдесят лет тому назад, а может и с еще большей силой, звучат слова о. Сергия Булгакова, отражающие главную проблему интеллигенции: «Теперь интеллигенция наша поставлена перед дилеммой: или духовно возродиться, предприняв радикальнейший пересмотр всего своего духовного багажа, всего своего гуманистического мировоззрения, или же просто сгнить заживо» (стр. 147).
Интеллигенция сделала свой выбор. В течение пятидесяти лет безмерных страданий и унижений из глубины раскованного хаоса, сквозь леденящие ветры злобы и ненависти звучал голос покаяния: «Господи воззвах к Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего!»
Достаточно прочесть книги Пастернака и Солженицына, Гинзбург и Ахматовой, внимательно присмотреться к советской литературе, не давшей, может быть, высоких художественных произведений, чтобы услышать этот голос, голос блудного сына, стремящегося вернуться в Дом Отчий.
Следует согласиться с о. С. Булгаковым, что «идеалы революции провалились, кумиры гуманизма и социализма низвергнуты». Но означает ли это, что окончательный ответ найден, а путь ясен до конца? Сейчас об этом трудно сказать – интеллигенция В ПУТИ. Еще много искушений и соблазнов предстоит преодолеть, «но на небосклоне духовном уже взошла “звезда светлая и утренняя” и из храма Света Незаходимого доносится благовест».
Хочется сердечно поблагодарить всех тех, на чьи плечи легли трудности и заботы по изданию этой замечательной книги.
Вестник РСХД. 1967 № 4 (86), с. 52–53
Без подписи.
Открытое письмо в редакцию вестника русского студенческого христианского движения
Дорогие друзья,
Последнее время нам удается через Ваш Вестник, доходящий до нас самыми различными путями, более или менее регулярно следить за Вашей жизнью и работой. Огромным источником вдохновения и надежды делается для нас сам факт Вашего существования, тот факт, что свободная русская мысль и религиозное слово, задушенные у себя на родине, не умерли в изгнании и, благодаря Вам, свидетельствуют о себе пред всем миром и пред Россией, свидетельствуют о жизненности и будущности русской культуры и Православия.
Сейчас всякое слово, доходящее сюда из русского зарубежья, сохранившего и приумножившего достояния русской культуры и религиозной мысли, для нас особенно драгоценно: в России начинается пробуждение от глухой и кошмарной полувековой спячки. Сегодня снова перед русским сознанием, уставшим от идолопоклонства, встают вечные проблемы жизни: Бога, Добра и зла, смерти, устроения справедливого общества и т. д. то есть, встает проблема нового сознания, которое должно быть христианским не только отчасти или в какой-либо своей сфере, но христианским в своей цельности.
Между тем, сегодня главная трагедия русской жизни – ее бессловесность: куда бы ни обратилась ищущая душа, она находит везде ложь. Все окутано непроницаемым слоем неправды, общеобязательной официальной мифологии, боящейся всякого свободного слова и, пуще огня, боящейся света Правды Христовой.
Русское религиозное возрождение, заметное прежде всего на настроении молодой интеллигенции, есть движение стихийное. У нас нет ни органа печати, ни свободы собраний, ни свободной религиозной проповеди, нет пастырского руководства, нет, наконец, книг, вплоть до Священного Писания и молитвенников. Но у нас есть иное – все растущий приток новых, кипучих сил в Православие.
Однако, для того чтобы религиозное сознание, приходящее на смену господствующей идеологии, смогло заявить о себе, из тайного сделаться явным, стать достоянием всех, нужна трибуна, печатный орган. Таковым мог бы явиться Ваш журнал… И вот здесь наши надежды, увы, не всегда сбываются. К сожалению, порою те идеи, которые мы находим на его страницах, слишком мало связаны с проблемами сегодняшней России, и это вопреки Вашей же собственной программе ориентации на русские проблемы, служения Вашей Родине, лишенной всего, без чего не мыслите Вы своего существования. Порою создается впечатление, что Вы не верите, что Вам придется жить в завтрашней России, что Вы есть то же самое русское тело, провиденциально отторгнутое от России, чтобы сохранить, приумножить и вернуть приумноженными данные Вам от Господа таланты. Вы сделали первое и второе – мы ждем от Вас третьего и последнего. Перед единством всех тех, кто верен лучшим духовным идеалам России окажутся бессильны все преграды.
Одним словом, мы желали бы, чтобы Ваш журнал был в большей степени ориентирован на Россию: русский читатель сегодня более любого другого нуждается в правдивой информации.
Что бы нам хотелось чаще встречать в Вестнике Р.С.Х.Д.? Это прежде всего статьи по религиозной философии, богословию, историософии, истории культуры и церкви, статьи высокого уровня, но не узко специального, а общетеоретического характера, способные привлечь широкие круги образованных читателей. Необходимо помещать статьи о внутри- и внешне-политическом положении России, о проблемах мировой политики и культуры, однако, отличающиеся от обычных обзоров своим принципиальным подходом: журнал должен представлять ту или иную политическую или культурную ситуацию не только как дело рук человеческих, но как связь нашей конкретной, эмпирически ощутимой действительности с метафизической реальностью, чувство которой утрачено современным человеком, к сожалению, не только в России.
Показать метаисторию в истории, высшее духовное начало в культуре, вскрыть подлинно христианское отношение к политике, творчески продолжить опыт отцов русского религиозного Ренессанса, Булгакова, Бердяева, Франка, Федотова и др. – Вот задача, выше и труднее которой не найти; и если Ваш журнал примет столь высокие обязательства, то, мы знаем, это случится не в чаду самоуверенности, а в трезвой убежденности в насущной потребности этого дела.
Нам хотелось бы также, чтобы журнал вел более широкий библиографический отдел, давая обзоры интереснейшей с его точки зрения литературы, выходящей на иностранных и русском языках, как на Западе, так и в России. Журналу равно необходим отдел церковной жизни, в котором рассматривались бы проблемы международного церковного движения, Православия, русской Церкви у себя на Родине и в Рассеянии, проблемы духовного и идейного сближения исторически раздробленных частей церковного тела.
Дорогие друзья. Примите нашу искреннюю благодарность, примите уверения в любви, примите наши пожелания, помните, что и Вы и мы трудимся на общей ниве Христовой, над общим делом – делом христианского возрождения России.
Да поможет Вам Бог!
Вестник РСХД. 1968 № 3–4 (с. 89–90).
Открытое письмо без подписи.
Metanoia
Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа…
(Деян. 5,19).Что наиболее характерно сегодня во внутренней жизни России? Нам думается, начавшееся пробуждение самосознания. Если еще недавно можно было говорить только о брожении умов, об инстинктивной неудовлетворенности человека собственной нравственной позицией, самое большее, о нескольких организованных правовых протестах, то теперь картина меняется. Подспудное недовольство, бессознательное отвращение и неприятие коммунистического режима перерастает в сознательную оппозицию. Не нужно обольщаться: эта оппозиция – не партия и не орден, у нее нет ни газет, ни клубов, ее возможности самовыражения крайне невелики. И тем не менее, движение занялось и растет по всей России, от столиц до отдаленнейших национальных окраин. Общую черту, создающую это движение как что-то качественно однородное, мы назовем стремлением к «проявленности». Имеется в виду повсеместное тяготение к выраженности прежних неосознанных или полуосознанных интенций на языке более глубокого и правдивого миропонимания. Все вышесказанное относится лишь к интеллигенции, к немногочисленному ее слою, в котором нравственное пробуждение вызывает потребность к осмыслению действительности и своего назначения в ней. Этот слой тонок и почти незаметен над огромным морем обманутого населения. Интеллигенция как на наковальне: вверху аппарат насилия и лжи, внизу – агрессивная по отношению к культуре и свободе «масса», состоящая из мелких служащих, отнюдь не связанных с землею крестьян, рабочих (отнюдь не пролетариев), низших офицерских чинов и прочих категорий полуобразованных или малообразованных мещан, представляющих собой по своим взглядам, привычкам и рефлексам классический тип homo sovieticus’a. Однако, это положение не безнадежно, и в этой массе заметно брожение, и ей передалась неуверенность и усталость от неизвестности и неопределенности – она хочет чего-то устойчивого и положительного, она хочет верить в своих вождей и в их идеалы. Масса живет не своим умом, но теми идеями, которые выделяет культурная элита. От ее самосознания и ее ценностей зависит будущее России. До последнего времени интеллигенция, отказывая в доверии коммунистическому режиму, переходила обычно на позиции отрицания, злобствования втихомолку. Ее бессилие, кажущаяся невозможность сказать свое слово, неизжитый страх побуждали ненавидеть весь мир и саму себя, все глубже погружаться в уныние и бездеятельность.

