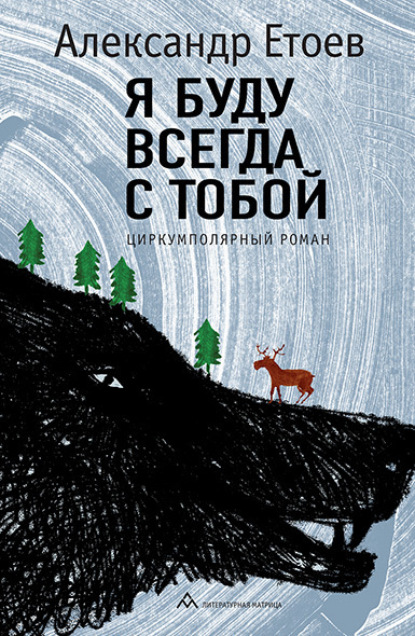
Полная версия:
Я буду всегда с тобой
«Даже теперь, когда уже так много говорят о страшном превосходстве и о достигнутых повсюду успехах, кто мог бы сказать, что, в сущности, произойдёт с нами и многие ли из выживших в этом году сумеют остаться людьми? Мне это причиняет невыразимую боль, и я целыми неделями думаю о тех, кто успел умереть раньше, и завидую им, что они всё это видят уже не отсюда. Ведь где-нибудь в мировом пространстве должны быть такие места, откуда весь этот ужас представляется всего лишь явлением природы, одним из ритмических потрясений вселенной, неколебимой в своём бытии даже там, где мы гибнем. А погибая, мы, разумеется, переходим в высший круг бытия – там мы сможем наблюдать всю полноту катастрофы и внезапно поймём что-нибудь и о смерти; может быть, именно в этом смысл этой ужасной войны; может быть, это только эксперимент, проходящий перед глазами неизвестного нам наблюдателя, – если только мыслимо существование безошибочного глаза, зоркого, испытующего глаза исследователя, который изучает это так же, как изучают прочность горной породы, и устанавливает следующую, более высокую степень жизненной прочности в этом кипении смерти…»[1]
А «студебеккер» вёз боеприпасы,Вела машину девушка-шофёр… –вжав кулак в обвислую щёку, жевал унылую песенную жвачку художник-инвалид Хоменков, приблудившийся к Дому ненца по причине отсутствия местожительства и кормящийся оформительскими работами да подкраской облупившихся стен. Пел он песню единственно для себя, его не слушали, гул разговоров сливался с сизым табачным маревом, потому что уже где-то к пяти затянувшееся праздничное застолье перевалило официальную фазу и перешло в вольную.
Способствовало этому переходу отсутствие первых лиц партийного и советского руководства, начальства из служб и ведомств Комиссариата внутренних дел и аппарата госбезопасности, гражданской и военной прокуратуры, суда окружного и городского, начальника городской милиции и прочих представителей власти, которым не положено по ранжиру панибратствовать за общим столом с руководителями низшего ранга и представителями трудовых коллективов, – они укатили праздновать в окрисполком, отсюда неподалёку.
Там, на улице Республики, бывшей Царской, стол, наверное, был богаче – во-первых, ждали омское начальство из областного УНКГБ (начальник, полковник Быков, это выяснилось потом, послал вместо себя зама, подполковника Гаранина; ждали на праздник и Дымобыкова, шутили, впрочем, на ухо: «Дымобыкова без Быкова не бывает», – но генерал не приехал тоже); во-вторых, и это было важнее, представители местного руководства, приглашённые за исполкомовский стол, завоевали себе право на праздник.
Но и за столом в Доме ненца люди не чувствовали себя обиженными, присутствующие здесь понимали, что начальство начальству рознь, приятно, конечно, сознавать, что первый секретарь окружкома закусывает тем же самым налимом и пьёт из тех же самых запасов, которыми потчуют и тебя, а начальник райотдела НКГБ встаёт под те же самые тосты, под которые вскакиваешь и ты, только стоит ли переживать из-за этого, тем более что товарищи из потребсоюза позаботились о хлебе насущном.
Зачем девчонка резко тормознула?Снаряды от толчка разорвались.И у руля навеки ты уснула –Своей судьбе за это поклонись.Хоменков допел до конца и опять потянулся к стопке, выпил, закусил балыком и мутным глазом оглядел стол:
– Лауреат, не вижу лауреата. Тебя вижу, – взгляд его встретился с узким лицом помреда газеты «Нарьяна нгэрм» товарищем Цехановским, – а этого… ну, как его… ненавижу. Тьфу… не вижу, ненавижу, какая разница!
– Не пей больше, – посоветовал ему сосед по столу. – Вино – это пойло к сумасшествию.
– Видел руку? – Инвалид тряхнул обшлагом и обнажил до локтя левую руку. Правой, от плечевой кости и ниже, у Хоменкова не было. – Я художник, я ею заборы крашу. И она у меня одна, не как у некоторых… как их… лауреатов. Держи мускул, щупай, не бойся. Я ею гирю трёхпудовую подымаю, я в мишень стреляю с неё без промаха. А он двумя свои скульптуры ваяет. Давай выпьем. За то, что у него две руки. За талант. За лауреата. Мерзавец… Знаю, всё про него знаю… Откупился, сбежал от славы… Теперь в зоне собирается отсидеться… Лауреат! Кто видел лауреата? Хочу выпить за великого человека.
– А и вправду, – подхватил Цехановский, – почему Степан Дмитриевич отсутствует? Товарищи, а где наш лауреат? Неудобно всё же без лауреата.
– Я найду. – Хоменков поднялся и, шатнувшись, поковылял к выходу. Но в дверях был едва не сбит запыхавшимся товарищем Ливенштольцем.
– Пропустите, – пропыхтел Ливенштольц, придержав художника за рукав и тем самым не допустив падения. И, сразу же о нём позабыв, с шумом устремился к начальству. – Беда, Илья Николаевич! Туземную одежду похитили!
– Какую ещё туземную? – Казорин недовольно поморщился. – Что значит «похитили»?
– Сами эти ироды и похитили, своё барахло оставили, а в той, что танцевали, ушли.
Окружающие с интересом прислушивались.
Еремей Евгеньевич был лилов – от пятнадцати граммов спирта (больше он позволить себе не мог), выпитого в самом начале за здоровье маршала Сталина, Верховного главнокомандующего страны, и переживаний за похищенное имущество, имеющее инвентарные номера и числящееся за ним лично.
– Это вызов? – спросил Казорин, глядя, как в глазах Ливенштольца плавают притухшие светляки. – Сейчас, когда ходят разговоры про мандаладу, это можно воспринимать как вызов? В такой тем более день.
– Я не знаю. – Ливенштольц растерялся. – Им одеваться не во что. Хотя в свете разговоров про мандаладу… Нет, всё это по недомыслию, несознательно. Ну, туземцы, ну что с них взять.
Вернулся от дверей Хоменков:
– Несознательно… хе-хе… несознательно. Вон, сознательные премии получают для того, чтобы потом с несознательными по тундре шастать. Я найду товарища лауреата. Мандалада, не мандалада, но я найду. В мастерскую к нему пойду, вытащу его на свет электрический. Отлынивать от праздника – это поза, недозволительная для творческого работника. Я заборы крашу, а он отлынивает. Если, понимаете, знаменитость, значит, понимаете, и отлынивать?
Хоменков навис над столом, точнее, над пригубленной стопкой, стоявшей перед начальником Дома ненца, тот её не успел допить, остановленный явлением Ливенштольца.
Зачем девчонка резко тормознула?Снаряды от толчка разорвались… –сопроводил он хватательное движение куплетом из популярной песни и выпил из пригубленного сосуда.
Казорин на него не обиделся, сам имея к товарищу лауреату претензии различного свойства, в частности, по поводу примуса и открытого огня в мастерской.
– Вы как-то не по-праздничному сейчас говорите. Какими-то иносказаниями и намёками.
– Я за правду искусства руку дьяволу продал, – возразил на замечание Хоменков, утирая рукавом рот, – потому я имею право.
«Дьяволу… – заволновался Казорин. – Это какому ж такому дьяволу? О чём он?»
Вопрос требовал разрешения, и начдома объявил в лоб:
– Дьявол, я понимаю, это оборот речи, вроде бога, аллаха или мифологической богоматери, то есть тех спекулятивных фигур, сущность которых Ленин определил как опиум для народа?
– Правильно понимаете, это оборот речи. Но такой оборот речи, от которого не поздоровится кое-кому.
Хоменков загадочно усмехнулся и нацелил взгляд на сосуд, за которым янтарным цветом поигрывал целебный напиток.
Казорин проследил его взгляд.
«Жалко, – подумал он, – что интересная сторона личности открывается лишь тогда, когда переполняется алкоголем».
Он наполнил до краёв стопку и налил себе в соседнюю на две трети.
– Руку на войне потеряли, – сказал он утверждающим голосом. – В справедливой войне с фашизмом. Дьявол – это фашизм, чтоб ему ни дна ни покрышки. Выпьемте, товарищи, за победу!
За столом выпили за победу.
Хоменков поставил стопку на место, развернулся и пошёл к выходу.
– Мандалада, – сказал он громко, не вписавшись в дверной проём.
– Тьфу на вас, – сказал Ливенштольц.
– Во-во, – в спину уходящему Хоменкову сказал сидевший через стул от Казорина замрук окрземпродотдела товарищ Гнедин. – И сетеснастный материал ему дай, и перевесы, и шатры с вентерями, а он оленей в тундру угнал и жрёт там свои сушёные мухоморы.
– А ху-ху ему не хо-хо? – добавил Хоменков от дверей. – Не хо-хо ему ху-ху, говноеду?
И оставил растревоженный зал.
Вполголоса заговорили про мандаладу.
Всякий что-то знал, но туманно.
Кто-то вспомнил, что где-то, вроде бы на одной из отдалённых факторий, видели лиственничную палку с вырезанной на ней тамгой – знаком мандалады, сиречь восстания. Вспомнили про гитлеровские подлодки, якобы повадившиеся охотиться в устьях рек едва ли не по всему Ямалу («и может, даже заходящие в Обь»). А где фашисты, там и их прихвостни («почему бы и не из туземного населения?»). Вот тебе и похищенная одежда, вот тебе и праздничный спирт («на хрена, спрашивается, его им вообще давали?»).
– Помню, перед войной, – товарищ Гнедин, замрук, забарабанил пальцами по столешнице, – тогда ещё Севморпуть здесь всем управлял, так вот, развезли наши снабженцы по факториям и торговым пунктам партию умывальников, парусиновых туфель и большое количество экземпляров книги французского писателя-коммуниста Анатолия Франса «Остров пингвинов». Чем, спрашивается, плох был товар? Так они фыркают, зачем им умывальники, зачем им «Остров пингвинов», им платки с кистями вези, цветные ленты и крупный персидский бисер, им чашки подавай чайные, маленькие, с красивым рисунком, им клеёнка на стол нужна…
– Кле-ё-ё-ёнка, – протянул Цехановский. – Ну не заелись ли, товарищ Казорин? И музейную одежду украли. Завтра же доложу главреду, и на четвёртой полосе дадим фельетон. «Пляски плясками, а на чужое добро не зарься» – так примерно и назовём. Или так, поударнее: «Гоп со смыком по-самоедски».
Казорин покачал головой:
– Сегодня праздник, товарищи. Так что чёрт с ней, с этой одеждой, в музее её семь сундуков. Нет, в милицию заявим, конечно, дело это так не оставим…
«Ну дурак! – ругал он про себя Ливенштольца. – Ну при всех-то трубить зачем? Это в свете разговоров про мандаладу. Нет чтоб тихо, на ушко́ мне шепнуть, так он сразу: “Беда! Похитили!” Вот теперь и вправду выйдет беда, если дело повернут на политику».
Ливенштольц как будто услышал это мысленное к нему обращение.
– Дети малые эти ненцы, – чуть сконфуженно произнёс он. – Вот уж точно, не ведают, что творят. И наверняка ведь без задней мысли, их одели в ихнее же, туземное, а что временно – об этом сказать забыли. Я забыл, мой недочёт, думал, догадаются, черти дикие.
– Я, кхе-кхе, ни в жизнь не забуду, было это в сороковом году, – сделал вставку в разговор Полублудин, управделами местного Интегралсоюза, – к нам однажды, я тогда в Яр-Сале работал, на двадцать третий юбилей революции приехали из Парейской тундры, из колхоза Третьей сталинской пятилетки, самоеды чуть ли не всем колхозом. Входит один такой в магазин, на нём пиджак ватный, сапоги на каблуках, яловые. Пиджак настежь, под ним дюжина, ей-богу не вру, рубах, сверху красная, под ней лиловая, дальше чёрная, следом какая-нибудь ещё в горошек, он напялил их одна на другую, у всех вороты тоже настежь, чтобы все, значит, видели, какой он такой особенный. Тогда в колхозах чуть не по два червонца получали за трудодень, то есть в месяц шестьсот рублей, это при средней-то по стране зарплате триста двадцать рублей с копейками. Тут не то что на пряники и конфеты, тут на много чего хватало…
– А потом он в том же пиджаке и рубахах шёл на промысел и рыбную ловлю, – досказал Еремей Евгеньевич. – И конфеты все раздал в тот же день первым встречным и поперечным. Я же говорю: дети малые.
Цехановский хмыкнул, ёрзая на казённом стуле:
– Ну да, и не ведают, что творят. – Он воздел палец к люстре. – Это, может, при Ермаке не ведали, когда казаки покоряли Сибирь. Теперь они ведают, ох как ведают. Искусился туземный житель, прежние воззрения изменились, был он честен, а стал хитёр, ему всё дай, а с самого и взять вроде нечего. Хотя, по мне, один чёрт сопьются. В этом они точно как дети. Видят водку и хлещут как оглашенные. Всё, что хочешь, за неё отдадут, лишь бы только упиться вусмерть.
– Ну, сейчас особо не разгуляешься, – возразил ему Еремей Евгеньевич. – Это, может, в Ташкенте, Алма-Ате, где работают рестораны с музыкой и артистки столичных театров пьют шампанское из хрустальных бокалов. У нас в Сибири с этим туго – война. Праздники не в счёт, тут понятно. – Он довольно оглядел стол, задержался весёлым глазом на продукции рыбоконсервного комбината, подмигнул товарищу Калмыкову, поспособствовавшему сему изобилию, и философски завершил мысль: – Да-а, устроил нам фашист жизнь. Только в праздники, выходит, и вспомнишь, как гуляли до проклятой этой войны.
– Шампанское… рестораны с музыкой… – поморщился начдома Казорин. – «Я б зашёл в ресторанчик, чекалдыкнул стаканчик…», а? Люди щучьей порсой питаются, а ты – рестораны! Нет, товарищи, пока врага не добьём, стыдно думать про какие-то рестораны. Предлагаю ещё раз налить и выпить за дорогого нашего товарища Сталина, уверенно ведущего нас к скорой победе.
Глава 6Хмельной кураж играл в крови Хоменкова и требовал мгновенного выхода. Поэтому, когда культяпый художник добрёл до мастерской скульптора (дверь которой оказалась незапертой), он прокукарекал заливисто, прежде чем заглянуть внутрь. Его громкий петуший крик должен был, по разумению исполнителя, напомнить лауреату-откупщику сцену из Евангелия, читанного Хоменковым в детстве. Читанного не по собственной воле, а по прихоти хоменковской крёстной, выжившей из ума старухи, помершей незадолго перед войной. Впрочем, сам Хоменков, спроси его, в чём смысл этой сцены, то есть какая связь между событиями, изложенными в Евангелии, и неприязнью неудачливого художника к увенчанному славой лауреату, и если таковая имеется, то кто из них двоих Иисус, а кто Его ученик Пётр, в страхе отрёкшийся от Учителя, вряд ли объяснил бы свой жест. В общем, кукарекнул и кукарекнул, а как воспримет это лауреат, Хоменкова не волновало.
Он вошёл в мастерскую. В нос ударили рабочие запахи, терпкий – дерева, душноватый – красок, кислый – стылого столярного клея. Сквозь завешенные тканью окошки пробивалась заоконная муть.
– Эй! – сказал Хоменков от входа, хотя было и так понятно, что хозяина в мастерской нет.
Темнота ему ответила гулом, и у вошедшего поубавилось куража, потому что в ответном звуке ему почудились неясные голоса и прозвучавшая в них угроза.
Он чиркнул зажигалкой из гильзы от древнего немецкого маузера и сразу же пожалел об этом. Василий, первомученик Мангазейский, юноша, почти ещё мальчик, улыбался ему тихой улыбкой, от которой у оторопевшего Хоменкова испарился последний хмель. Ни о каком Василии Мангазейском Хоменков и слыхом не слыхивал, ни о нём, ни о городе Мангазее, златокипящей государевой вотчине, сгинувшей в пучине времён, художник-оформитель не знал. А если б даже и знал, на что ему, увечному маляру, это бесполезное знание? В церковь он не ходил, в Бога и в иконы не верил, а на прочитанное в детстве Евангелие смотрел глазами поэта Демьяна Бедного, то есть свысока и с издёвкой, хотя, будучи художником просвещённым, не отрицал влияния на искусство отдельных религиозных образов.
Пламя от фитилька зажигалки гуляло туда-сюда, и от этого гулящего света непроработанное лицо святого менялось, будто в волшебном зеркале. Улыбку, благостную и тихую, вдруг сдувало, как сквозняком, и в глубокой щели между губами начинали шевелиться слова.
«Что тревожишь меня, мазило заборное? – спрашивали губы святого. – Что тебе дело до меня? – И, не дожидаясь ответа, сразу же шептали угрозы: – Отдам твой уд огню на съедение, и, куда ни пойдёшь, всё будет тебе беда».
Хоменков облизал губы, захотелось выпить вина. Такое с ним уже было, правда, без церковного мракобесия: как-то ночью, проснувшись спьяну, он увидел перед собой Стаханова с отбойным молотком на плече. Зачинатель стахановского движения долго-долго смотрел на стену, на раздувшихся от крови клопов, тихим ходом уползающих под картину, на само несовершенное полотно (юношеский опыт художника), изображающее берег реки и стайку комсомолок-купальщиц, перевёл взгляд на её создателя, застывшего на голом матраце и хлопающего голыми веками, и, грохнув инструментом об пол, сказал Хоменкову сухо:
– Руку вернёшь потом.
– Т-т-товарищ… – хотел узнать не до конца ещё проснувшийся Хоменков, при чём здесь его рука и зачем ему её возвращать (с рукой он распрощался позднее), но Стаханов договорить не дал.
– Японский бог тебе товарищ, – оборвал его герой пятилетки, взгромоздился задом на молоток и, как ведьма, уплыл из комнаты.
Поэтому, услышав про уд и вспомнив судьбу руки, предсказанную ему в пьяном бреду, Хоменков обиделся не на шутку и закрыл рукой с зажигалкой то место на своём галифе, где ютился вышеупомянутый орган.
– Не возьмёшь! – прокричал он страшно и прибавил, чтобы было весомее: – Буратино, деревяшка безмозглая! Сожгу вот, и будет тебе беда самому.
Слова, запущенные в лицо святому, придали Хоменкову отваги, и он уже собрался сказать, что не верит никаким предсказаниям, а верит только чувствам и разуму, и что касается отнятой руки, то в этом виноват случай, ну отморозил он сдуру пальцы, ну опоздал, не обратился тогда за помощью, испугался, думал, ещё оттают, вот и оттяпали подчистую руку, чтобы гангрена не жрала дальше, – как вдруг почувствовал запах дыма и боль в том месте, которое закрывал рукой.
Он швырнул зажигалку под ноги и с тоской посмотрел на брюки, на расползающуюся кайму огня, потом стал бешено колотить ладонью по чёрно-рыжей, палёной ткани.
– Сволочь! – Хоменков чуть не плакал. – Последние штаны мои сжёг. У-у-у! – Он чуть отступил назад и замахнулся на подлое изваяние, полускрытое вернувшейся темнотой.
И почувствовал, как его кулак перехватили железной хваткой.
Холодом ударило в спину, мёртвым холодом, дыханием склепа.
Хоменков был человек пуганый, видел смерть и сам бывал у неё в упряжке, но сейчас, оказавшись на этом капище, да ещё и с рукой – единственной! – пленённой неизвестно каким поганцем, струхнул, как схваченный на месте кражи карманник. Он готов был даже перекреститься, как учила его когда-то старуха-крёстная, но опять же – ведь не ногой креститься! Мысль про ногу призвала к действию. Хоменков, не поворачиваясь к противнику, прикинул мысленно, где у этого гада яйца, и что есть силы ударил по ним ногой.
Боль стремительной телеграммой-молнией пронеслась от ступни до темени и залила глаза чернотой. Он повис, как однорукий Лаокоон, с вывернутой в плече конечностью и другой конечностью, правой нижней, крепко стиснутыми, словно в железных кольцах.
– Врёшь, зараза! Большевики не сдаются! – прорычал Хоменков врагу и единственной свободной ногой нанёс удар, теперь уже наугад.
Снова боль, будто пятка с лёту напоролась на колонну из стали.
Невидимка, пленивший его руку и ногу, за всё время не проронил ни звука. Это Хоменкова бесило. Хоть бы матом обругал, что ли. Хоть бы охнул, свистнул, пёрнул, в конце концов. Да и хватка, которой держал художника подозрительно молчаливый враг, была какая-то не такая, не человечья. Равнодушная. Ледяная. Мёртвая.
Новый страх прошёлся иглой по коже.
«Это что же за манихейство он здесь у себя развёл? – Слово “манихейство” попало на ум случайно, оно застряло в голове у художника на одной из антипопóвских лекций и выплыло теперь из забвения, как выплывает из пучины морской латимерия, кистепёрая рыба. Значения слова художник уже не помнил, но была в нём некая жутковатая сила, от которой ворочались в животе кишки. – Получается, лауреат – колдун? Раз умеет оживить деревяшку. И это… этот… – Он как мог повернул голову и скосил глаза за плечо, но ничего, кроме мути, не разглядел. – Чушь, не может этого быть. Ну конечно, голова я дурная! Набил статуи шестерёнками и пружинами, вот они и работают заводными пугалами…»
Художника отпустило. Страх ушёл, и вернулась злость. Он рванулся раз, ещё раз, потом снова; сзади загрохотало, зашевелились шестерёнки с пружинами, и железное заводное пугало – или что там было на самом деле? – погребло заживо инвалида.
С полминуты он пребывал в смерти, вжатый в пол чудовищной тяжестью. После ожил, пошевелил пальцами и нащупал занемевшим мизинцем шершавое колёсико зажигалки. Слава богу, значит, рука свободна. Механическим движением кисти художник высек рукотворный огонь. Маленькое пламя качнулось, тени тихо расползлись по щелям. Сверху больно давила тяжесть, не опасно, а отстранённо, холодно. Хоменков поёрзал, порыпался, но давильня продолжала давить. Улыбка на безликом лице вновь ожившего мангазейского чудотворца была глумливой, как у чёрта болотного. Он смотрел на копошащегося художника и говорил нешевелящимися губами: «Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил дьявол, – что на них и пенять».
Этого обидного зрелища и этих беззвучных слов художник вынести ну никак не мог – какой художник такое вынесет! – и поэтому собрал свою волю, поднапрягся, крякнул, как Илья Муромец, и немедленно освободился от гнёта.
На полу с ним рядом лежал нарком путей сообщения СССР Лазарь Моисеевич Каганович – только не живой, а железный, выполненный из плотной массы металлических опилок и стружки, спёкшихся под действием кислоты (личное изобретение лауреата, чтоб ему ни дна ни покрышки!). Художник вытянулся, как был, то есть в положении «лежа», чтобы засвидетельствовать фигуре своё почтение, пусть она и сотворена руками.
Низкорослый и огромный одновременно, в короткой полушинели, в фуражке, с благодушной улыбкой, проглядывающей сквозь сталинские усы, Лазарь Моисеевич не лежал, Лазарь Моисеевич возлежал, величавый даже здесь, на полу, свергнутый по нелепой случайности с временного своего пьедестала.
Хоменков встал над наркомом и попытался его поднять. Куда там, с одной рукой попробуй совладать с такой глыбой!
Тогда он тихо стал отступать к двери – на нет, как говорится, и суда нет, никто ж не видел, что это он обрушил статую на пол.
Хоменков был уже у выхода, когда услышал с той стороны шаги, кто-то шёл по коридору сюда. Или мимо? Он погасил пламя. Дёрнулся зачем-то к окну, серому призрачному квадрату, перекрещенному тяжёлой рамой. Сшиб по пути пару мелких деревянных кикимор, ругнулся молча, не на себя, на них. И, ослеплённый, закрыл рукавом глаза.
Рза стоял на пороге, держа палец на выключателе. Свет от низкой неяркой лампочки, ютящейся под колпаком абажура, мягко растекался по мастерской.
Если разруха, которую он увидел, его и смутила, то виду Степан Дмитриевич не подал. Зато подал голос. Был он мирный, без намёка на злость.
– Ты бы… это… срамоту свою прикрыл, что ли.
– А? – не понял Хоменков поначалу.
Он-то ожидал бури, а вместо бури получил тишь. Но когда до него дошло, он покраснел до алых пятен на скулах и пятернёй заградил промежность.
– Где это тебя угораздило? Или бес в тебя влез какой?
– Это он. – Хоменков ткнул пальцем в деревянного первомученика Василия, для Хоменкова – его мучителя.
– Этот может. – Рза рассмеялся. – Этот и не такое может. Он медведей и коров помирил, чтобы мишки на бурёнок не зарились. Ну, идём, возьмёшь штаны у меня, в этих стыдно на люди показаться.
Он отправился к дальней стенке к небольшому деревянному коробу, красиво изукрашенному резьбой. По пути он поднял кикимор, поравнялся с порушенным Кагановичем и без усилий поставил его стоймя, будто был нарком не железный, а состоял из воздуха.
Хоменков, увидев такое дело, помрачнел и беззвучно выматерился.
«Вот ведь сука, видит, что я безрукий, так ещё и силой своей выделывается».
Он поплёлся за лауреатом молча и, пока тот копался в коробе не бог весть с какой поношенной одежонкой, взглядом гомозил по столу, что стоял тут же, припёртый к стенке.
Стол был щедро заставлен банками со всевозможными подручными мелочами, необходимыми в ремесле художника, – карандашами, перьями, иглами, штихелями разного назначения, кисточками с вылезшим волосом, которые впору б выкинуть, но мастер их почему-то держал. Ближе к краю белели листки бумаги, разложенные по столу, как пасьянс. Рядом со стеклянной чернильницей лежала тетрадка с выписками, почерк был аккуратный, но строчки читались трудно.
Хоменков прошёлся по ним глазами и сильно наморщил лоб, пытаясь вчитаться в смысл, ускользающий от него, как угорь.
«От древней моей старости ужо едва ходить могу, и веема у меня, нижайшаго, ноги стерло, ходить и стоять не могу, древен и худ, и мочию моею немощен, и портов на себе не могу носить, и в глубокой моей и в древней старости пребываю. Обещался я, нижайший раб ваш, штобы быть при манастыре Знамения Богородицы пребывати, и здоров был и мочию моею владел, и, прошед время, сего года Великаго поста, немок лежал в скорбе… С тово времени худ и трухав, и сам себе не рад, при старости моей зделалося надо мною, а за собою никакова расколу не имею, и впреть будушо время неотложно отсем прошу вашего архипастырскаго милостиваго расмотрения: из желез свободить, железа снять и благословить, и отпустить в дом к детям моим, штобы водилися со мною и покоили до смерти».



