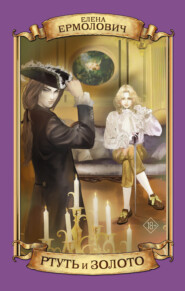
Полная версия:
Ртуть и золото
Немногие владели секретом этого яда, столь немногие, что их и звали так – господа Тофана. По легенде, им нельзя было продавать свой секрет, иначе – позор и смерть. Катарина Десэ и две другие, итальянские Тофаны торговали смертельной водой – и окончили дни свои на костре и в тюрьме. Но яд можно было подарить или выменять – на ночь любви, например…
Яков так и не узнал, кто был их Тофана, их убийца, мужчина ли, женщина. Но понял вскоре, что многие полагают – что Тофана он сам, Яков Ван Геделе.
Он и прежде знал, какие слухи идут о них с шевалье. Дипломаты вообще распускали друг о друге сплетни – как завистливые монахини. Яков был накоротке со своим патроном и видел в нем друга, и даже отца, пусть и были они почти что ровесники. Шевалье де Лион многим хвастался своим личным хирургом – с восторгом, быть может, несколько неуместным. О том, как умен его Ван Геделе, и как образован, и сколь искусен. Многие видели в их близости греховную связь, но это было глупой, бездарной ложью. Оба, и Ван Геделе, и де Лион, любили женщин, и даже порой с излишним вдохновением.
Де Лион умер – и молодой Ван Геделе сразу же сделался в Кенигсберге персоной нон грата. Ему ненавязчиво, но весьма и весьма отчетливо дали понять, что, по мнению света, виновник смерти шевалье – он сам, ближайший друг, брат и врач. Двери гостиных захлопнулись перед носом – с унизительным треском. Яков запальчиво фыркнул и метнулся в Ченстохов – к юному пану, еще недавно желавшему его переманить. Пан даже не соизволил его принять. И шепот полз за спиной – Тофана…
Яков умел составлять яды и эликсиры – не зря он хвастался дорожному своему попутчику. Но тофану он, конечно же, приготовить не мог, и даже до конца не верил в этот яд, считал его легендой, переоцененной пустышкой. Имя «Тофана», быть может, льстило бы ему – при других обстоятельствах. Но сейчас это имя закрыло перед ним все пути, все двери.
И Яков возвратился в Москву – в город, где никто не знал его или с трудом мог вспомнить. Ведь дурное имя не потащится за ним через весь мир, на север, по снежной белой дороге? Яков думал начать здесь, в Москве, где никто не слышал о нем, свою новую жизнь и встретить нового, еще одного де Лиона – русского. Или же немца – их, говорят, предостаточно при русском дворе. А Европа – что ж, подождет. Слухи скоро забудутся, старые сплетни заменятся в головах людей новыми…
Яков легко шагал по снегу в рассветной мгле, и колокола переливались малиновым звоном – в такт бряцающим медицинским инструментам в его саквояже. Снег играл голубыми искрами, масляно бликовали в первых лучах церковные луковки – жизнь новая начиналась. И разве что вороны проклятые каркали – но на свои же головы, на свои…

Трижды благословенный
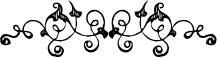
«Как похорошела Москва при новой государыне!» – воскликнул бы праздный путешественник, но не таков был Ивашка Трисмегист. «Гвардейцев в городе как грязи, и фонарей навтыкали – ночью в простоте и не пройдешь, и не поохотишься», – размышлял он, пробираясь по улицам к своей первой цели. В богатых кварталах и в самом деле появились фонари, полные горючего газа – для пущей красоты, порядка и, увы – против лихих людей. Проходя через рынок, приметил Трисмегист и агентов тайной полиции – их выдавала особая повадка. По одежде вроде люди как люди, но рожи – испитые и чем-то неуловимо друг с другом схожие, может, выражением – как у принюхивающихся собак.
Задворками дошел Иван к роскошному господскому дому, миновал конюшни и заснеженный английский сад и вышел к дверям черного хода. Сторож впустил его, не чинясь – Трисмегиста ждали.
– Дома хозяйка? – монах стряхнул с плеч снежинки и откинул на спину капюшон.
– Ее светлость только с прогулки, – нарядный дворецкий отодвинул прочь дубину-сторожа и впился пронзительным взглядом в гостя. – Пойдем, дружочек, только потопай здесь сапогами – чтоб ковры господам не загадить.
– Я-то потопаю, – легко согласился Трисмегист, – но в покои не пойду. Негоже рожу мою в покоях светить – увидит кто, и грош мне потом цена. Проводи меня, мил человек, до черной лестницы – и хозяйке передай, пусть туда ко мне выходит.
Дворецкий сделал большие глаза, но возражать не стал – указал гостю в сторону черной лестницы и бесшумно растворился в длинной анфиладе, ведущей в господские покои. Трисмегист поднялся по лестнице, присел на ступенечку и принялся беззаботно насвистывать.
– Разложила девка тряпки на полу, раскидала карты-крести по углам… – подпел за его спиною мелодичный голос ту самую грустную каторжную песенку, что свистал ряженый монах.
– Здравствуй, хозяюшка! – Трисмегист вскочил со ступенек, повернулся и в пояс поклонился. – Вот и дошел я до вас, от самого Ченстохова – белыми своими ножками.
– Не свисти, – отозвалась хозяюшка по-русски, но с немецким шипящим акцентом. Как же несозвучны были грубые эти слова с нежной и изысканной ее наружностью. Трисмегистова «хозяйка» была самая настоящая дама, высокая, тонкая, в бархатной, винного цвета амазонке – от самой модной в Москве портнихи, в перчатках – от парижского скорняка. Нет, не разряженная парвеню – хищное породистое лицо, и царственная осанка, и манера играть тонким стеком говорили о том, что богатство и высокое положение для дамы дело привычное, если не наскучившее. Но – арестантская песенка, простецкая грубая речь…
– С пополнением вас, ваша светлость, – умильно проговорил Трисмегист. Талия дамы была чуть более округла, чем предполагала ее невесомая комплекция – красавица была в тяжести.
– Не твое дело, – огрызнулась «ваша светлость», и темные брови ее нахмурились – от этого нежное злое лицо сделалось еще прекраснее. – Ты привез тетушку? Покажи!
Трисмегист извлек из-за пазухи сверток, размотал – и выглянул темный печальный лик. Дама поставила ногу высоко на ступени – мелькнуло голенище драгоценного верхового сапожка, – взяла икону и утвердила на своем колене. Вгляделась, прищурившись:
– А похожа! Мастер, что ее писал, с тобой приехал?
– А надо было? – растерялся Трисмегист, – Я ж его сразу того, – он сделал красноречивый резкий жест. – Подумал, что так и условлено…
– Что ж, значит, не судьба, – смиренно согласилась дама. – А я хотела было у него Габриэля к себе в будуар заказать.
– Гавриила? Архангела? – переспросил монах. – С огненным мечом?
– Да какая теперь разница, – дама отставила икону с колена на ступени, сняла с пояса тугой кошелек. – Вот, пересчитай.
Иван пересчитал, сделал постное лицо:
– Прибавить бы надо, хозяюшка. В дороге опасностей не счесть, пули свистели над головою…
– Так мы с тобою о таком и договаривались, – рассмеялась «хозяюшка», вскинув темные брови. – Что будут они свистеть. Кольчугу тебе выдали – из древних лопухинских доспехов. Вернешь кольчугу-то?
– Не здесь же мне заголяться… – пробормотал Трисмегист с поддельным смущением, но дама осталась непреклонна:
– Окстись, я и не такое видала. Расчехляйся, не смотрю, – она зажмурилась и отворотилась к перильцам. Иван побарахтался в рясе и кое-как вытянул из-под одежды тонкую, нежно звенящую кольчугу:
– Принимайте, хозяйка. Видите, пулями вся почиркана…
Хозяйка повернулась, приняла из его рук кольчужку, изучила, сощурясь, белые царапины – следы от пуль:
– Вот хренов каравай… Я прибавлю, Ивашечка. Как на месте устроишься – сразу приду к тебе с прибавкой, герой мой. Ты нашел уже место, где вы с тетушкой остановитесь, или помощь моя нужна?
Судя по всему, дама почитала «тетушку», черную икону, живым существом – или так шутила.
– Спасибо, хозяйка, есть у меня часовенка одна на примете, из тех, нижних, – Трисмегист опустил глаза долу.
– Под землею, что ли? – уточнила дама.
Иван кивнул, спрятал за пазуху кошелек и принялся заворачивать икону обратно в рогожку.
– Вот ты с кем снюхался! – восхитилась дама, – Ай, молодечик! И не хлопнут меня у вас в катакомбах, Ивашечка? Всю такую богатую и беззащитную?
– Не беспокойтесь, хозяйка, – значительно отвечал Трисмегист, он уже спеленал икону и приготовился прощаться, – ни вам, ни другим господам, что пожелают в часовню наведаться, никто зла не причинит. Под землею люди не те, что в подворотнях – слово держат, а у меня с ними крепкий уговор. Приходите, не бойтесь. Как обустроюсь – дам знать и сам вашу светлость лично провожу.
– Что ж, прибегай за мною, как устроишься, – дама цапнула рукой в перчатке звенящую кольчугу и устремилась вверх по лестнице. – Ступай, Иван, спасибо за службу!
– А ручку, ручку-то облобызать? – подался было за ней Трисмегист, но сверху долетело до него нежнейшее:
– Обрыбишься!
Иван спустился к черному ходу, помахал растяпе-сторожу и пошел прочь по заснеженному белому саду. «Какой садик лохматый, совсем не барский», – думал монах о новомодном английском саде, заведенном англоманом Лопухиным, князем, хозяином дома и супругом прекрасной грубиянки. Английские сады только-только входили в моду и были в Москве экзотикой и эпатажем, но князь Лопухин обожал – эпатаж. Как бы дорого ни приходилось за него расплачиваться.
С семейством князей Лопухиных Трисмегист познакомился девять лет назад, в Охотске. Они были ссыльные, он – арестант. Когда умер малолетний наследник, царевич Петр Петрович, – камергер Лопухин в церкви на отпевании ребенка имел дерзость острить, и даже хохотать. Эпатаж – как он есть, в полном великолепии, и все-все фраппированы… За тот превосходный эпатаж князюшка бит был батогами и сослан в Охотск, вместе с молодой женой и новорожденным сыном. Впрочем, ссылка не научила камергера уму – и в Охотске был он все тот же наглый, гоношистый, скандальный и глупый. Никто с ним толком не считался. А вот юная жена его…
Помнил Трисмегист их самую первую встречу – как вчера дело было.
Лопухинская дворня была под стать своему господину – скандалисты, пьяницы, а кое в чем и превзошли своего хозяина: оказались еще и ворищи знатные, тащили все, что под руку попадет, как сороки. Арестантам охотским подобное было вдвойне обидно – это волка ноги кормят, а собаку должен кормить хозяин. А тут псы смердячие разлакомились – на чужую добычу…
И, конечно же, настал неизбежный час расплаты – арестанты подстерегли обидчиков неподалеку от лопухинской избы, и вот-вот должно было свершиться возмездие. Сам князь Лопухин издалека, с крылечка, наблюдал, как охаживают дрынами его лакеев, да робел вступаться. Смотрел – так пастух с холма любуется на то, как волки дерут его стадо.
– Брысь! Разбежались к хренам! Попа к попе – кто дальше прыгнет! – молодая княгиня по рождению была немка и по-русски говорила так, что не каждый разберет. И по-русски она больше ругалась. Но доходчивости ее словам добавляло вскинутое – с несомненной сноровкой – охотничье ружье.
– Как скажешь, барыня, – арестанты побросали дрыны и медленно, чтоб не показывать бабе своего страха, вразвалочку побрели восвояси. Побитая дворня, охая, поползла к дому.
Княгиня опустила ружье и вдруг вслед арестантам крикнула по-немецки, и синие глаза ее вспыхнули:
– Эй, мизерабль! Ты – Борька Кольцов? Тетенькин егермайстер?
Трисмегист остановился, повернулся кругом, но отвечать не спешил. Когда-то давно, до ареста, был он и вправду Борька Кольцов, да только имя его на этапе стерлось, потерялось, растаяло как дым. Стал – Иваном. И был он, конечно, у бывшей матушки-царицы не егермайстер никакой, самый обычный егерь…
– Так ты – Кольцов, парень? Только здорово же похудел…
Трисмегист кивнул, набычившись, и чуть попятился, словно собирался сбежать. Княгиня взяла из-за пояса варежку, надела на красную зябнущую руку. Русский тулупчик на ней перевязан был так здорово – и двух княгинь можно было в него завернуть, такая уж тонкая была у этой дамы талия.
– Пойдем со мной, посмотришь, у этого ружья курок туго ходит. Я знаю, ты умеешь ружья чинить, а у меня дома – все дураки, – ласково попросила княгиня, все еще по-немецки. – Пойдем, Борька.
Борька выходил у нее по-немецки как Бурка.
– Только я теперь Иван, барыня, – поправил ее Трисмегист, и княгиня легко согласилась:
– Что ж, Иван так Иван.
Трисмегист потом уж и не удивлялся, как сочетаются в этой невероятной женщине аристократическая тонкость и звенящая, восхитительная вульгарность. Гибкая, как плеть, синеглазая принцесса, в пуховом платке и русском тулупе, она повелевала и распоряжалась, и все это – отборным матом пополам с трескучей немецкой руганью. Осанка герцогини, манеры прачки. Молодая княгиня была напориста, и решительна, и умела себя поставить – даже бывалые арестанты внимали ей с почтением. И делали вид, что слушаются.
И была она – доверчива, добра и глупа. Это проступало чуть позже, когда морок слепящей ее красоты отпускал. Но Трисмегисту княгиня нравилась именно такою – сквернословящая богиня, игра природы. Он с удовольствием притворился, что служит ей – тем более сейчас, когда богатство и сила в полной мере вернулись к госпоже Лопухиной. И прежними остались разве что наивное ее сквернословие и магическая хищная красота.
На улице позади лопухинского дома к Трисмегисту присоединились прежние его провожатые – немонашеского вида монахи. Здоровяки шли за ним бесшумно и на вопрос «Где нынче вход, все там же?» – ничего не ответили, только одновременно пожали плечами.
За рынком стояла покосившаяся, темная от времени деревянная часовенка, возведенная на месте давнего кулачного боя. Иван улыбнулся часовенке, как старой знакомой:
– Здравствуй, матушка! Выходит, все у нас по-прежнему…
Провожатые на подходе к часовенке остановились, притопывая, среди сугробов. Трисмегист оглянулся на них и пошел дальше – в пахнущий ладаном сумрак. В часовне не было никого, горела перед образом последняя одинокая свечка. Иван перекрестился, подпалил от горящей свечи еще одну, потом взял из-за пояса то ли ломик, то ли отмычку – и оружие, и инструмент, – отошел в уголок, наклонился и подцепил на полу незаметную петлю. Открылся люк – Иван уселся на край его, спрыгнул вниз со свечой в руке, потом потянулся и закрыл люк за собою – снизу к петле привязана была веревка.
Пламя скудно озаряло каменные низкие своды – чтобы идти вперед, Трисмегисту приходилось наклонять голову. Подземный ход полого спускался вниз, огонек свечи дергался и плясал, освещая пятнистые стены с замерзшими водяными потеками. «Оттает по весне – и опять будет здесь у нас не катакомба, а водопровод», – озаботился одинокий путник.
Дорога повернула, потолки сделались повыше, в стенах появились крошечные зарешеченные окошки. Такие окошки означали, что дорога проходит под землею неподалеку от подвалов Лефортовского дворца, нынешней царской резиденции. Тот, к кому шел Трисмегист – господин по прозвищу Виконт, смотрящий за московскими татями, – предпочитал обитать неподалеку от действующей власти, держать, так сказать, руку на пульсе. Да и там, где золото – там всегда и золотоискатели.
Дорогу Ивану заступил было близнец тех двоих, оставшихся наверху, но узнал его и кивнул приветливо.
– Где батюшка, в кабинете? – спросил Трисмегист, и толстяк кивнул еще раз. Все охранники Виконта были как на подбор – высоченные, толстенные, без языка и неграмотные. Иван часто думал: такие они тупые, как кажутся, или придуриваются?
Иван свернул в проем перед очередной решеточкой и очутился в маленькой комнате. Здесь горел целый шандал, и за столом сидел человек – перед раскрытой бухгалтерской книгой.
– Вот ты, Иван, слышал прежде о монахе Луке Пачоли? – не поднимая от книги глаз, произнес человек задумчиво – говорил он размеренно и чисто, как грамотный. – Кабы не сей монашек, не было бы порядка в счетном деле. А так – лепота!
– Здравствуй, Виконт, – сказал Трисмегист. – Что, счетовода нового завел?
– Заведешь тут, веры нет никому, – Виконт поднял голову от книги. – Сам считаю. А Лука этот – он способ придумал, как доход с расходом ловко свести.
Виконт одет был по-русски, но выбрит гладко, по немецкому обычаю. Длинные волосы его, сивые и жидкие, расчесаны были на пробор, как у попа. Черты лица – остры и резки, в углах рта лежали темные волевые складки, а зеленые глаза зато – добрые-добрые, в лучиках морщин – потому, наверное, что душегубец знатный был тот Виконт, и один из первых московских татей.
– Я задаток принес за часовню, – Трисмегист подбросил в ладони тугой княгинин кошелек. – Только вот что: господа ведь не полезут в часовню через люк, как я. Зады замарают.
– Это не беда. У меня для господ проделан отдельный вход, из палат арестованного Дрыкина, помнишь такого злодея-купца? Палаты дрыкинские опечатаны стоят, но при желании войти всегда можно. И вход там хороший, даже головы наклонять почти не нужно. Я тебя проведу через него – увидишь.
– Так пойдем смотреть владения, батюшка, – Трисмегист положил кошелек на стол. В руки давать – дурная примета.
Виконт раскрыл кошель, пересчитал и вдруг широко улыбнулся:
– Самое дорогое – глупость человеческая. Ведь верно, Трисмегист?
Зубы у Виконта были господские – очень ровные, но землистого цвета, вставленные от покойников. Иван засмотрелся на эти вставные зубы, потом опомнился, кивнул.
– Что ж, пойдем смотреть.
Виконт спрятал кошель и вышел из-за стола. Носил он мягкие купеческие сапожки, бархатные, расшитые бисерным узором, на бесшумном ходу. Виконт взял шандал, поманил гостя за собою и пошел по коридору, ступая крадучись, пластичный и гибкий, как рысь. Иван следовал за ним, и безмолвный охранник, конечно же, тоже. Миновали коридоры, переходы, лесенку – Виконт открыл ключом дубовую дверь, и голос его отозвался гулким эхом в стрельчатых сводах:
– Вот, принимай хоромы. Выход – через дрыкинский дом, друг мой тебя проводит. – У виконтовых охранников не было имен, все они были – «друг мой».
Трисмегист поднял голову, огляделся – подземная часовня оказалась именно такая, как надо. Для охмурения золотых гостей. Темные древние арки, с которых свисали сосули – то ли каменные, то ли ледяные.
– Комнатка есть, чтобы спать, только топить в ней нельзя – угоришь. Тут тяга так себе, – пояснил Виконт.
Трисмегист извлек из-за пазухи икону, распеленал, поставил на каменный аналой, рядом установил свою оплывшую свечу и перекрестился. Охранник перекрестился тоже, а Виконт – не стал и в ответ на удивленный взгляд проговорил весело:
– Я агностик. Как философ и воин Рене Декарт – слышал небось о таком?
– Не-а, про Рене Анжуйского зато слышал, и про Рене Паткуля, и про Рене Левенвольда.
– Для тебя и сих трех довольно, – благодушно отозвался Виконт.
– Эта часовня – из тех, что под землю ушли, вроде кунцевских? – полюбопытствовал любознательный Трисмегист.
– Вот уж не знаю – я в Москве всего десять лет, а прежде Сибирь покорял, превращал большие камни в маленькие. Принимай владения. Как тебе обнова – пойдет? Тебе – и мадонне твоей?
– Пойдет, – согласился Трисмегист. – Только это не мадонна, это матка бозка Ченстоховска.
– Будь у меня побольше времени, я прочел бы тебе длинную лекцию, – улыбнулся Виконт своей покойницкой землистой улыбкой. – И о черных мадоннах, вроде твоей, и о госпоже Эрзули Дантор, и о японской Черной Каннон. Но во дворце вот-вот начнут разгружать мрамор для ремонта лестниц, и в моих интересах – не пропустить сей сказочный шанс. Новый обер-камергер пыжится своей бдительностью и во все вникает – я просто обязан переиграть его на его же поле. Поэтому – жду тебя с остатком моих денег, Трисмегист, и прощай до поры. Мой друг проводит тебя на выход – увидишь, как легка дорога.
И Виконт удалился – беззвучно, словно растаял. Шандал он забрал с собой, и теперь в свете единственной свечи часовня выглядела самым таинственным местом на свете.
От иконы пришлось забрать свечу – Иван мысленно извинился за это перед матушкой Еленой, – и безмолвный «друг мой» проводил гостя на свет божий. Дорога наверх и в самом деле оказалась почти целой каменной лестницей, просторной и гулкой, и вывела во флигель старого купеческого дома. В этом пустом, разграбленном доме Иван и простился со своим провожатым. Он не помнил, за что казнен был хозяин дома Дрыкин, но подозревал – по делу вроде его собственного, по которому Борька Кольцов загремел в Охотск, превратившись безвозвратно в Трисмегиста.
Третья и последняя цель Ивана Трисмегиста расположена была совсем неподалеку от дома бедняги Дрыкина. Это был господский почти что дворец, большой и богатый, но даже с улицы было видно, что порядка в нем нет – не чета был этот темный раздрызганный дом игрушечной английской шкатулке господ Лопухиных.
Иван пошел, конечно же, через задний двор – не желал светить лицом у парадного входа. Как-никак миссия его была секретная.
На заднем дворе как будто резвился сумасшедший гигантский ребенок – были разбросаны санные полозья, хомута, вилы – еще с того лета, и цветочные арки – с прошедшего семейного торжества… Трисмегист бочком пробрался среди всей этой роскоши, постучал в черную дверь – с которой клочьями лезла краска:
– Дома хозяин?
Лакей не узнал его, да и не должен был – он кликнул дворецкого, и вот дворецкому и предъявил Иван свой пароль. Достал из-за пазухи перстень с кровавым камнем. Ни за что бы Трисмегист не стал носить подобный перстень на руке – такие камни носят разве что содомиты-говномесы, но никак не честные бывшие арестанты. Дворецкий перстень признал, проговорил вполголоса:
– Дома барин, пойдем потихонечку.
Трисмегист обстукал от снега сапоги и устремился вслед за провожатым. В доме было не больше порядка, чем на дворе – вещи как будто толпились в коридорах и напирали друг на друга, сундуки, и статуи, и горшки с цветами, и драгоценные венецианские кресла.
– У вас что, ремонт в доме? – спросил в недоумении Трисмегист, и дворецкий отвечал – с экстатическим отчаянием:
– У нас так всегда. Скромный образ жизни – высокий образ мыслей, это хозяин так говорит…
Иван возразил было, что это не скромный образ жизни, а хламной и безобразный, но вовремя прикусил язык – они пришли.
Андрей Иванович Остерман – русский Андрей получился у него из Генриха, или из французского Анри, – считался при дворе главным умницей. А дома – главным неряхой. Он сидел за столом в своем кабинете, точно так же, как недавно сидел у себя в подземной конторе Виконт. Но в Остермановом кабинете словно смерч пронесся – на столе возвышалась ваза с турбулентно разбросанными яблочными огрызками и очистками, свисавшими с вазы гроздьями и валявшимися по столу, словно жертвы тайфуна, по креслам разметались брошенные хаотически рубашки и кальсоны, по углам стояли вповалку тюки неизвестно с чем и лежали кошачьи заскребыши.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

