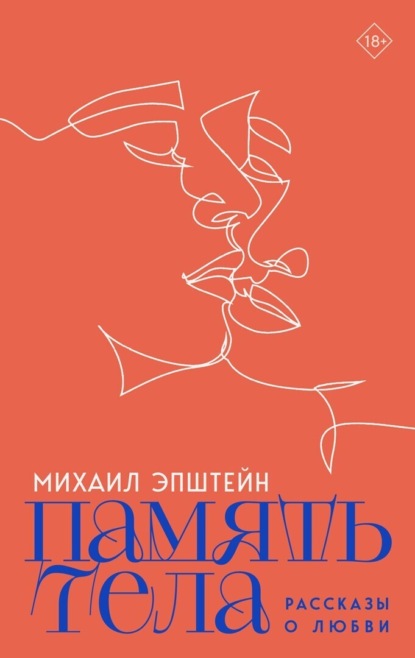
Полная версия:
Память тела
Она радовалась его похвалам, и он старался делать это чаще: иным начинающим нужны витамины самокритики, а другим – уверенности в себе. Судя по всему, у неё была вполне успешная карьера, но чувствовалось, что её душа не там, в кабинетах и на совещаниях, а здесь, в маленькой литературной студии. И однажды она призналась ему, что уже достаточно преуспела в своей профессии, чтобы позволить себе уйти из неё. Но куда? Она хотела бы сосредоточиться на литературе, но не уверена, есть ли у неё призвание. И вопросительно взглянула на него.
От волнения у него сжалось горло. Он давно уже хотел сделать этот шаг, но не решался пересечь черту.
– Конечно, нам надо поговорить, – сказал он. – Обещаю быть предельно искренним. Ваш вопрос важен и для меня. – И добавил, заметив в её лице растерянность: – Не беспокойтесь. Всё хорошо.
На следующий день они встретились в ресторане. Он впервые видел её в вечернем платье – и это была уже совсем иная женщина, не офисная и не студийная, а почти незнакомая, общение с которой сулило и психологический риск, и неожиданные открытия. После обмена любезностями и бокала сухого вина он начал этот разговор, в котором ставки для них обоих могли только возрастать.
– Я давно слежу за тем, что вы пишете, но «слежу» – неточное слово. И даже не «сопереживаю». Текст – это очень откровенная вещь. Это не только слова и даже не только мысли и чувства. Это оголённые нервы. И когда я вас читаю, я прикасаюсь к ним – и мне передаётся то, что вы сами, может быть, и не осознаёте. Ритм бытия, биение пульса. Это почти биология, физиология, психология, назовите это как угодно, но от некоторых пассажей меня просто бьёт током. Хотя я давно уже в студии, я никогда так лично не воспринимал ничьей работы. Это магия: через меня проносятся ваши образы, метафоры, например «сосудистая система листа» или «бабочка смотрела в упор своими глазастыми крыльями». Я сам начинаю так видеть мир – сквозь ваши призмы. Но дело даже не в отдельных образах, а в том, что сквозь ваши тексты течёт время, кровь… как будто у нас общая кровеносная система. Вы понимаете, что я хочу сказать?
– Да, – сказала она, и ему показалось, что она чуть наклонилась вперёд. – У меня часто бывает такое чувство, что я пишу именно для вас. И в вашей прозе, и в вас самом есть то, что меня понимает и принимает. Если бы в студии никого не было, я бы всё равно приходила, потому что именно ваш разбор так много для меня значит. Вы читаете вслух то, что я написала, – и для меня это приобретает новый смысл, как будто я начинаю понимать, что хотела и не могла выразить. Мне кажется, вы могли бы продолжать и заканчивать эти коротенькие истории гораздо лучше меня. Я знаю, им не хватает дыхания.
– Об этом я и хотел вам сказать. Вы спрашиваете о «призвании». Но ведь призвание – это не какая-то абстрактная вещь. Это зов – к чему-то, к кому-то. Я знаю, что ваша проза меня к чему-то призывает, ускоряет ритм моего существования. Я не могу поручиться за массовую аудиторию, за тысячи читателей – да и бог с ними. Я давно уже понял, что литература – это личное дело писателя и читателя, и если она их сближает, то она выполняет своё призвание. Читатель – это соавтор, а в нашем с вами случае это может стать реальным творческим процессом. Мне действительно часто хочется дописывать ваши рассказы, соединять их в циклы, в повесть или даже в роман. Мне хочется стать соединительной тканью ваших текстов. Сосудистой системой ваших листочков.
– Боже, – сказала она, – мы могли бы писать вместе?!
– Да, и скажу вам откровенно, мне об этом давно думается… Как мы сидим рядом за большим письменным столом. Делимся идеями, образами, строим долгий сюжет. Вырастает роман, целая книга. Ведь почему тексты порой выглядят обрывистыми? Сам человек – обрывист, неполон. Ему нужен другой, с кем он составил бы целое. Поэтам нужна муза. Или любовь. Писательство – это поиск другого. Кто-то заметил, что Беатриче и Лаура были, по сути, соавторами тех произведений, которые Данте и Петрарка им посвятили. Они их вдохновляли, подсказывали нужные слова, стояли у них за плечом… А теперь представьте, что эта метафора воплощается, что мужчина и женщина, как слитное существо, творят совместно. Простите мне эти, может быть, слишком возвышенные слова, но мне кажется, высокого слишком мало в нашей жизни и оно имеет право быть с нами, между нами, если мы достойны того…
Он вдруг увидел, что с её лицом происходит что-то странное. Оно как будто распадалось на части и пыталось себя собрать. Она плакала, сдерживала себя и не могла сдержаться. Он наклонился к её лицу и стал своим лицом вытирать её слёзы. Щекой вытирал её мокрую щёку. Лбом вытирал глаза.
– Простите, – сказала она. – Я больше не буду. Мы будем писать вместе. Соединим пальцы. Вот так. – Она протянула руку и переплела его пальцы со своими. – Мы будем сидеть за большим столом, читать друг друга и делиться историями и фантазиями. У меня за жизнь скопилось столько нерассказанных историй… А ещё больше невоплощённых фантазий…
Они шли по ночному городу, сцепившись пальцами и касаясь друг друга плечами.
– Знаешь, – сказала она, – у меня есть на-бор из двух ручек. Привезла из Италии. С голубой подсветкой. Для ночной работы. Я проснусь и что-нибудь напишу, чтобы тебя не будить.
– Буди меня, пожалуйста, – сказал он. – Я хочу смотреть через твоё плечо.
* * *Тридцать лет спустя, когда его уже не стало, она разбирала старые бумаги – и нашла черновик его письма, обращённого к ней за несколько дней до той памятной встречи в ресторане, с которой началась их общая жизнь. Ей стало не по себе: что нового может открыться в прошлом?
…Важно, чтобы даже в большой прозе был нервный ритм, чтобы читатель чувствовал себя наедине с автором, доверял ему и позволял вести за собой в неизвестное. Что для этого нужно? Чтобы мы были вместе. Чтобы, обнявшись, мы сливались и растворялись друг в друге, переживая счастливый миг двуполого зверя, с двумя спинами и сросшейся грудью, переплетёнными конечностями, единым лоном. А потом, разлепившись, долго смотрели друг другу в глаза и ловили там блёстки затихающего блаженства и шептали всякие глупости, нежности, шалости, путались друг в друге, ещё не умея расплестись и стать отдельными существами.
И тогда мы напишем книгу, которая охватит целую эпоху и станет нашим вкладом в большую литературу, которой Вы всем сердцем хотите служить… А потом мы сможем написать ещё много книг. Их будут читать, изучать, переводить на другие языки…
Что для этого нужно? Чтобы это продолжалось каждую ночь. Чтобы мы истязали друг друга этим блаженством. А потом мы будем бродить по улицам, наблюдать толпу и человеческие страсти – и тем острее ощущать то горячее месиво, в которое мы только что окунались, становясь одним существом. Нет связи прочнее, чем эта зыбь, в которую мы бросаемся с двух берегов и тонем вместе, топим друг друга. Вот идут два человека, но они связаны пуповиной, они несут друг друга в себе и слегка покачиваются от этой переполняющей ноши.
А иногда мы будем уезжать в домик на берегу озера. Одна комната – кабинет с большим письменным столом, другая – спальня. И я буду опять и опять погружаться в Вас, до изнеможения, до бессвязного бреда, потому что во мне неиссякаем тот источник, который рвётся наружу при взгляде на Вас, при одной только мысли о Вас. Во мне – стрелка компаса, всегда Вас ищущая. Она будет вонзаться и дрожать, вонзаясь. Сливаясь, мы будем плескаться в озере и расплёскивать его, чтобы оно качало нас. Мы будем говорить, и шептаться, и кричать обо всём на свете. Ваша речь – как блудливый ручеёк, который порой забывает, куда течёт, и блуждает по сторонам. А я буду прокладывать русло для Вашей речи. Мы будем говорить глазами, кожей, ладонями, и это будет нескончаемый разговор одного существа с самим собой…
Она читала и плакала. Он знал это наперёд… Некоторые учёные дураки считают, что литература – это просто особый порядок слов. Ставить, переставлять… Нет, литература – это от корня «лить». Литься, изливать, сливаться – кровь, слёзы, семя. И когда эта сила перейдёт через слова в мир – взойдёт ещё одно семя жизни, завертится ещё одно веретено…
Она бережно вложила письмо в старый, потёртый том – первый на отдельной полке, уставленной книгами… их книгами.
Шамаханская царица
Она посещала литературное объединение, но никто не знал, что она, собственно, пишет. И она не торопилась заявлять о своих дарованиях: выслушивала других, улыбалась, в обсуждениях почти не участвовала и, всё так же застенчиво улыбаясь, уходила. На третий раз я, по долгу руководителя, спросил, в каком жанре она работает.
– Сказка, – смущённо ответила она.
– Когда хотели бы обсудить?
Оказалось, что к обсуждению она ещё не готова.
Тем не менее я сразу поверил, что она пишет сказки, потому что она сама была на них похожа. Никогда раньше не встречалось мне такой яркой красоты, с восточной примесью. Чёрные, как смоль, блестящие волосы, почти до пояса, когда она их распускала; чёрные глаза, а в лице – алый свет… Я мысленно назвал её «шамаханской царицей». «Вся сияя как заря, / Тихо встретила царя». Было такое Шемаханское ханство на территории нынешнего Азербайджана, откуда Пушкин и взял это имя для таинственной героини своей «Сказки о золотом петушке».
Как выяснилось, и эта сказочница была родом из Азербайджана; в Баку на попечении её матери оставался её маленький сын. Именно для него она писала свои сказки. Мне так и не довелось увидеть их на бумаге. Однажды она вслух зачитала мне отрывок, где была лунная ночь, игра теней, волшебные птицы, заколдованный дом, говорящий ветер, – в общем, квинтэссенция сказочности, которая не позволяла судить о степени дарования. Но все эти вопросы – о мастерстве, о сюжете и жанре – отпали сами собой, поскольку наши отношения вышли на другую глубину, и она почти перестала посещать занятия…
Сказочной была не только её внешность, но и голос – врождённо тихий и чуть-чуть надтреснутый, временами вообще прерывающийся и замолкающий, даже когда она продолжала говорить. Этот голос искал тишины, уходил в безмолвие. И в ответ хотелось тоже говорить с ней шёпотом, наклоняться к уху и нашёптывать те тайны, которые должны остаться неизвестными миру, доверенными только ей.
Сама её красота, при всей своей яркости, тоже была тихой – она как будто себя не замечала, не задерживала внимания на себе, а молча проходила мимо. Я всегда побаивался красавиц, их пугающей предназначенности не мне, а какому-то невообразимому Красавцу, в отсутствии которого их лица запирались, как драгоценный ларец, а глаза глядели сами в себя. Её красота была не заперта, но и не выставлена напоказ; казалось, что сами вещи и воздух становились красивыми в её присутствии, начинали играть красками, а сама она при этом отступала в тень.
При этом она плохо знала себя и часто просила меня: «Расскажи мне обо мне! Кто я?» Казалось, её жизнь проходит в каком-то волшебном тумане, сквозь который трудно разглядеть людей и обстоятельства. Ей нужно было растолковывать её жизнь как аллегорию, иначе она не понимала, что с ней происходит: везде была неизвестность, она искала подсказок, и вскоре я стал главным её толкователем и разгадчиком. Я ей объяснял, что её тающий голос – это начало сказки, вхождение в тайну. А её лицо – счастливый конец, добытая царевна-красота, с которой герой будет жить долго-долго и умрёт в один день.
Она верила мне и понимала, что мы вместе движемся к чему-то большому, превосходящему нас обоих – к разгадке взаимной предназначенности. После занятий я заходил в квартирку, которую она снимала неподалёку. Мы пили чай, иногда сухое вино, говорили о ней и её сыне, волшебном мальчике, не по возрасту умном, для которого она пишет сказки и рассказывает их ему по телефону, мечтая о встрече с ним, хотя для этого есть трудно преодолимое препятствие в лице её бывшего мужа. Я не хотел её торопить, беспокоить своим мужским томлением, да и ощущение, вызванное её красотой и голосом, было скорее бесплотным, платоническим. Но эти наши совместные бдения до полуночи всё-таки не могли нас не сближать, и я чувствовал, что она сама начинает торопиться мне навстречу, обеспокоенная тем, что я заждался её. Слишком долго всё происходящее между нами было похоже на детскую сказку – из тех, что она рассказывала своему сыну.
И вот однажды мне разрешено было остаться. Свет был погашен, я не видел ни её тела, ни сияния лица, только слышал слабый, прерывающийся шёпот, словно где-то рядом вспыхивала свеча, чуть потрескивая и угасая. А может быть, и в самом деле на столик была поставлена тускло мерцающая свеча. Но… я ничего не почувствовал. Всё произошло, как и должно происходить, – но неощутимо и почти неподвижно. У меня возникло странное чувство, что там, куда я погружаюсь, ничего нет: ни отзыва, ни сопротивления, ни прикосновения. Не было не только бури, но и лёгкого ветерка – только несколько вздохов, чуть затруднённое дыхание… После этого нам было нечего сказать друг другу. Как будто мы вышли за пределы той сказки, где до этого обитали, – и наступило молчание.
Две недели после этого я пытался до неё дозвониться – она не брала трубку. Потом выяснилось, что она уезжала в далёкий глухой городок, с большой рекой и маленьким монастырём, – ей нужно было привести свою душу в порядок.
Больше мы не встречались. «И царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало». Я же, вспоминая пушкинскую сказку, вдруг открыл для себя то, чего раньше не замечал. Девица была столь же ослепительна, сколь и тиха. Сияние говорит за себя и избегает слов.
Спустя лет двадцать я случайно узнал о её дальнейшей судьбе. У неё неожиданно обнаружились далёкие немецкие корни. Вероятно, Шиллер, Новалис, Гофман, братья Гримм… Она переехала с сыном в Германию. Там в неё влюбился протестантский священник, который из-за неё бросил свою семью и потерял сан. Он был значительно старше её и прожил недолго. Взрослые дети священника ополчились против неё и затаскали по судам, поскольку он перевёл на неё своё состояние. Ей пришлось иметь дело с жалобами, справками, завещаниями, доверенностями, налоговыми извещениями, тогда как единственным жанром, в котором она разбиралась, была сказка. А её сын, волшебный мальчик, для которого она сочиняла сказки, так и оставшиеся для меня неведомыми, пристрастился к волшебным веществам, которые переносили его в другие миры. Она забирала его из очередного стационара – но он сбегал от неё и опять попадал в стационар, из которого опять пытался бежать. А потом его постигла ещё одна болезнь: самые обычные звуки в его восприятии становились невыносимо оглушительными. Он не мог сколь-нибудь долго оставаться в городской среде, громкие разговоры и музыка переполняли и мучили его. И только тихий, едва слышный голос матери приводил его в равновесие. Вся её жизнь прошла в борьбе с сыном и в борьбе за него.
Почему, в какой момент закончилась та сказка, которой она окружала себя – и сама была ею? Или сказка продолжалась, только становилась всё страшнее? Может ли сказка по ходу повествования менять свой сюжет? И тогда золотой петушок клюёт в темя саму шамаханскую царицу, обольстившую царя и его сыновей.
Нет слов
Не произноси всуе имя Господа, который есть Любовь.
Св. БонавентураКазалось, всё, всё было на их стороне. Они встретились в нужный момент, когда оба уже сильно страдали от одиночества. На середине жизненного пути, тридцать пять лет, не поздно ещё всё начать сначала. Ей нравились такие, как он: сдержанный, суховатый, но неожиданно – страстный. И профессионально они подходили друг другу: она преподавала примерно то же, что он изучал.
Но с самого начала что-то не заладилось. Он ни разу не признался ей в любви. Не сказал то, чего она больше всего ждала: «Я люблю тебя». Так просто, банально, у многих пар это звучит по сто раз на дню, а он упорно этого избегал. Причём бывали моменты, когда это напрашивалось само собой, когда им было особенно хорошо друг с другом, и вокруг тишина, будто ангел пролетел, – тут бы и произнести. Казалось, он сам это хорошо понимал, что-то в нём шевелилось, но он либо корчил смешную рожицу, либо клал ей руку на плечо, как бы поспешно ища, чем заткнуть образовавшуюся паузу. А она сходила с ума от этой его немоты, и каждый такой срыв ожидания вызывал у неё боль, а потом злость, которая всё накапливалась. Как будто именно в эти моменты несостоявшихся признаний она слышала от него другое признание: в нелюбви, в безразличии. И хотя она верила, что это не так, его словесная трусость тяготила её даже больше, чем если бы он просто не любил её. Тогда это было бы по крайней мере честно: не любит – не говорит.
Её поражало, что для вещей он не жалел ласковых слов. Свой ноутбук называл «нотиком», а программу DALL, с которой ему много приходилось работать, – «одалиской» или «одалисочкой». Она испытывала уколы ревности, когда слышала эти нежности, обращённые к бездушным вещам. А для неё у него таких слов не было. Только имя, чаще в уменьшительной форме, но ведь это тоже только формальность. Она мечтала, чтобы он придумал для неё особое, таинственное имя, которое знали бы только они вдвоём. Чтобы он ей что-то безумное шептал по ночам. Как-то ей попалось стихотворение Георгия Иванова, обращённое к жене:
Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,Весточка, царапинка, снежинка, ручеёк.Нежности последыш, нелепости приёмыш,Кофе-чае-сахарный потерянный паёк.Она чуть не задохнулась от зависти и страдания.
Однажды, вся сжавшись от непредсказуемости его ответа, она ему сказала «в шутку», выдавив натужную улыбку:
– Хоть бы сказал что-то нежное. На хорошие слова ты скуповат.
Он пожал плечами, ласково улыбнулся, приобнял её за плечи, но так ничего и не произнёс. И она почувствовала себя вымогательницей, а вымогать любовь – самый страшный грех. Сама бы себе не простила, если бы вынудила его сказать то, чего он не чувствует. Лучше молчание, чем подделка.
Эту холодность она начала постепенно ощущать и в его теле, которое стало негнущимся, не таким умным и чутким, как раньше. Особенно её раздражала его манера зажигать свет во время близости. Ей трудно было выдержать этот оценивающий, рассекающий взгляд, и она спешила выключить свет, понимая, что лишает его каких-то удовольствий. «Ну и пусть, – думала она, – если он такой ледышка, то я буду невидимкой».
Её угнетало и то, в чём она боялась себе признаться. Раньше они вместе поднимались на одной волне, которая доносила их почти одновременно до заветной точки. А теперь шла мелкая рябь, бурунчики в разных местах, которые не сливались и быстро разглаживались. Или это были две разные волны: пока одна росла, другая опускалась, и они скорее гасили, чем усиливали друг друга. Когда она попадала на свою волну и поднималась на ней почти до самого гребня, он порой вежливо замирал, уступая ей путь, но чаще, не стараясь себя сдержать, сбивал её своей волной – и достигал берега в одиночку. И это странно соответствовало его замкнутости, «запечатанности уст» – это выражение из старинной книги как будто прямо относилось к нему.
– Он боится оказаться в плену собственных слов, – объяснила ей подруга, единственная, с кем она поделилась этой болью из-за его бессловесности. – Если любишь – скажи! Нет, они боятся, что их поймают на слове. Что за этим последует неслыханная расплата. Что за признание в любви их приговорят к вечному, нерушимому союзу – ведь любовь обязана быть вечной. Пока он с тобой просто живёт, его ничего не сдерживает, а если «любит» – значит прощай его свобода. Для них слова – какие-то страшные идолы, от которых они прячутся в кусты… Ну ладно, а разве лучше такие словоблуды, которые каждую минуту клянутся в любви, «обожают», а при удобном случае сразу ныряют налево?.. А что ему хочется при свете, ты его тоже пойми: у мужчин жадные глаза, как у женщин – уши… Не переживай!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перевод Бориса Заходера.
2
См.: Эпштейн М. Любовь. М.: Рипол-классик (серия «Философия жизни»), 2018, С. 348–381 (глава «Корпус Х. Марксистская эротическая утопия»). Подборки некоторых рассказов, вошедших в данную книгу, ранее публиковались в журналах «Знамя» (№ 12, 2023), «Новый берег» (№ 83, ноябрь 2023, и № 84, февраль 2024), «Пятая волна» (№ 1, 2024) и «Этажи» (22 ноября 2023).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



