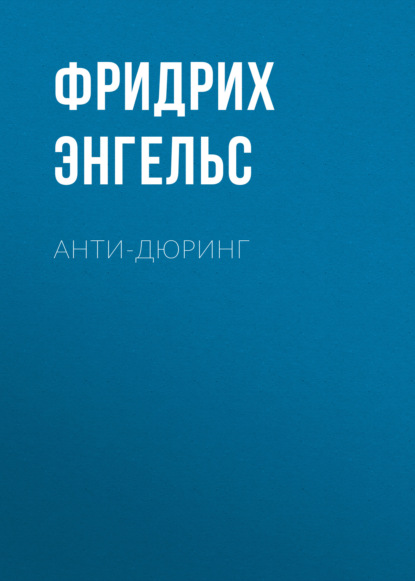 Полная версия
Полная версияАнти-Дюринг
Чистым «продуктом свободного творчества и воображения» г-на Дюринга является его утверждение, будто для ведения хозяйства на больших земельных пространствах требовались помещики и порабощенные люди. На всем Востоке, где земельным собственником является община или государство, в языке отсутствует даже самое слово «помещик», – о чем г-н Дюринг может справиться у английских юристов, которые в Индии так же тщетно бились над вопросом: «Кто здесь земельный собственник?», как тщетно ломал себе голову блаженной памяти князь Генрих LXXII Рейс-Грейц-Шлейц-Лобенштейн-Эберсвальде[120] над вопросом: «Кто здесь ночной сторож?» Только турки впервые ввели на Востоке в завоеванных ими странах нечто вроде помещичьего феодализма. Греция уже в героический период вступает в историю расчлененной на сословия, что, в свою очередь, было только очевидным результатом более или менее длительной, неизвестной нам предыстории. Но и тут земля обрабатывалась преимущественно самостоятельными крестьянами; более крупные поместья знати и родовых вождей составляли исключение и к тому же скоро исчезли. В Италии земля была освоена для земледелия преимущественно крестьянами; когда в последние времена Римской республики крупные комплексы имений – латифундии – вытеснили мелких крестьян и заменили их рабами, то они заменили одновременно земледелие скотоводством и, как это знал уже Плиний, привели Италию к гибели (latifundia Italiam perdidere)[121]. В Средние века во всей Европе преобладает (особенно при распашке пустошей) крестьянское земледелие, причем для рассматриваемого сейчас вопроса безразлично, приходилось ли этим крестьянам платить оброк – и какой именно – тому или иному феодалу. Фризские, нижнесаксонские, фламандские и нижнерейнские колонисты, которые предприняли обработку отнятых у славян земель к востоку от Эльбы, делали это в качестве вольных крестьян, плативших очень льготную подать, но отнюдь не в условиях «того или иного вида барщины».
В Северной Америке значительнейшая часть земельной площади была приведена в культурное состояние трудом свободных крестьян, тогда как крупные помещики Юга со своими рабами и своей хищнической системой хозяйства истощили землю до того, что на ней стали расти только ели, а культура хлопка вынуждена была передвигаться все дальше на запад. В Австралии и Новой Зеландии все попытки английского правительства искусственно создать земельную аристократию потерпели неудачу. Короче говоря, за исключением тропических и субтропических колоний, где климат не позволяет европейцу заниматься земледельческим трудом, крупный землевладелец, подчиняющий природу своему господству и проводящий расчистку земли под пашню посредством труда рабов или несущих барщину крепостных, оказывается чистейшим плодом фантазии. Напротив, там, где в древние времена появлялся крупный землевладелец, как, например, в Италии, он не пустыри превращал в возделанные поля, а, наоборот, обработанные крестьянские земли он превращал в пастбища, сгоняя людей и разоряя целые страны. Только в новейшее время, с тех пор как большая плотность населения подняла стоимость земли, и особенно с тех пор, как развитие агрономии сделало более пригодной для обработки также и плохую землю, только с этого момента крупные землевладельцы начинают принимать в обширных размерах участие в распашке пустошей и пастбищ, преимущественно путем расхищения крестьянских общинных земель как в Англии, так и в Германии. Однако и тут дело не обошлось без противоположного процесса: на каждый акр общинной земли, расчищенной под пашню крупными землевладельцами в Англии, приходилось в Шотландии по меньшей мере три акра пахотной земли, которые были превращены ими в пастбища для овец, а под конец даже просто в охотничьи парки для крупной дичи.
Здесь мы имеем дело только с утверждением г-на Дюринга, что освоение для земледелия значительных пространств земли, т. е. в сущности почти всей культурной земледельческой площади, «никогда и нигде» не совершалось иначе, как крупными землевладельцами при помощи порабощенных людей, – с утверждением, «имеющим своей предпосылкой», как мы видели, поистине неслыханное незнакомство с историей. Поэтому нам нет необходимости выяснять здесь, в какой мере в различные времена земельные пространства, уже целиком или большей частью освоенные для земледелия, обрабатывались рабами (как в эпоху расцвета Греции) или крепостными (как господские хозяйства со времени Средних веков); нам нет также надобности исследовать, какова была общественная функция крупных землевладельцев в разные эпохи.
Развернув перед нами эту великолепную фантастическую картину, в которой не знаешь, чему больше удивляться, фокусничеству ли дедукции или фальсификации истории, – г-н Дюринг торжествующе восклицает:
«Само собой разумеется, все другие виды распределительного богатства должны быть исторически объясняемы подобным же образом!».
Этим он, конечно, избавляет себя от труда проронить хотя бы еще одно словечко о возникновении, например, капитала.
Г-н Дюринг утверждает, что господство человека над человеком является предпосылкой господства человека над природой. Если этим он вообще хочет сказать лишь то, что весь наш современный экономический строй, достигнутая ныне ступень развития земледелия и промышленности, есть результат истории общества, развертывающейся в классовых противоположностях, в отношениях господства и порабощения, – то он говорит нечто такое, что со времени «Коммунистического манифеста» давно стало общим местом. Но дело именно в том, чтобы объяснить возникновение классов и отношений господства, и если у г-на Дюринга имеется для этого всегда про запас одно-единственное слово – «насилие», то такое объяснение ни на шаг не подвигает нас вперед. Уже тот простой факт, что порабощенные и эксплуатируемые были во все времена гораздо многочисленнее поработителей и эксплуататоров и что, следовательно, действительная сила всегда была на стороне первых, – уже один этот факт достаточно показывает нелепость всей теории насилия. Значит, все еще проблема заключается в том, чтобы найти объяснение для отношений господства и порабощения.
Они возникли двояким путем.
Какими люди первоначально выделились из животного (в более узком смысле слова) царства, такими они и вступили в историю: еще как полуживотные, еще дикие, беспомощные перед силами природы, не осознавшие еще своих собственных сил; поэтому они были бедны, как животные, и ненамного выше их по своей производительности. Здесь господствует известное равенство уровня жизни, а для глав семей – также своего рода равенство общественного положения, по крайней мере отсутствие общественных классов, которое наблюдается еще и в первобытных земледельческих общинах позднейших культурных народов. В каждой такой общине существуют с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возлагать на отдельных лиц, хотя и под надзором всего общества: таковы – разрешение споров; репрессии против лиц, превышающих свои права; надзор за орошением, особенно в жарких странах; наконец, на ступени первобытно-дикого состояния – религиозные функции. Подобные должности встречаются в первобытных общинах во все времена, – так, например, в древнейших германских марках и еще теперь в Индии. Они облечены, понятно, известными полномочиями и представляют собой зачатки государственной власти. Постепенно производительные силы растут; увеличение плотности населения создает в одних случаях общность, в других – столкновение интересов между отдельными общинами; группировка общин в более крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда и учреждение органов для охраны общих интересов и для отпора противодействующим интересам. Эти органы, которые в качестве представителей общих интересов целой группы общин занимают уже по отношению к каждой отдельной общине особое, при известных обстоятельствах даже антагонистическое, положение, становятся вскоре еще более самостоятельными, отчасти благодаря наследственности общественных должностей, которая в мире, где все происходит стихийно, устанавливается почти сама собой, отчасти же благодаря растущей необходимости в такого рода органах, связанной с учащением конфликтов с другими группами. Нам нет надобности выяснять здесь, каким образом эта все возраставшая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом; каким образом первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина над ним; каким образом господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то как восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой вождь, то как кельтский глава клана и т. д.; в какой мере он при этом превращении применял в конце концов также и насилие и каким образом, наконец, отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс. Нам важно только установить здесь, что в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции и что политическое господство оказывалось длительным лишь в том случае, когда оно эту свою общественную должностную функцию выполняло. Сколько ни было в Персии и Индии деспотий, последовательно расцветавших, а потом погибавших, каждая из них знала очень хорошо, что она прежде всего – совокупный предприниматель в деле орошения речных долин, без чего там невозможно было какое бы то ни было земледелие. Только просвещенные англичане сумели проглядеть это обстоятельство в Индии; они запустили оросительные каналы и шлюзы, и лишь теперь, благодаря регулярно повторяющимся голодовкам, они начинают, наконец, соображать, что пренебрегли единственной деятельностью, которая могла бы сделать их господство в Индии правомерным хотя бы в такой степени, в какой было правомерно господство их предшественников.
Но наряду с этим процессом образования классов совершался еще и другой. Стихийно сложившееся разделение труда внутри земледельческой семьи давало на известной ступени благосостояния возможность присоединить к семье одну или несколько рабочих сил со стороны. Это имело место особенно в таких странах, где прежнее общее владение землей уже распалось или где, по крайней мере, прежняя совместная обработка земли уступила место обработке земельных наделов отдельными семьями. Производство развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого поддержания ее; средства для содержания большего количества рабочих сил имелись налицо, имелись также и средства для применения этих сил; рабочая сила приобрела стоимость. Но сама община и союз, к которому принадлежала эта община, еще не выделяли из своей среды свободных, избыточных рабочих сил. Зато их доставляла война, а война так же стара, как и одновременное существование по соседству друг с другом нескольких общинных групп. До того времени не знали, что делать с военнопленными, и потому их попросту убивали, а еще раньше съедали. Но на достигнутой теперь ступени «хозяйственного положения» военнопленные приобрели известную стоимость; их начали поэтому оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким образом, насилие, вместо того чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено, наоборот, служить ему. Рабство было открыто. Оно скоро сделалось господствующей формой производства у всех народов, которые в своем развитии пошли дальше древней общины, но в конце концов оно стало также одной из главных причин их упадка. Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью и таким путем создало условия для расцвета культуры Древнего мира – для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки; без рабства не было бы и Римской империи. А без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы. Нам никогда не следовало бы забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было в той же мере необходимо, в какой и общепризнано. В этом смысле мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма.
Нет ничего легче, как разражаться целым потоком общих фраз по поводу рабства и т. п., изливая свой высоконравственный гнев на такие позорные явления. К сожалению, это негодование выражает лишь то, что известно всякому, а именно – что эти античные учреждения уже не соответствуют нашим современным условиям и нашим чувствам, определяемым этими условиями. Но при этом мы ровным счетом ничего не узнаём относительно того, как возникли эти учреждения, почему они существовали и какую роль они сыграли в истории. И раз мы уже заговорили об этом, то должны сказать, – каким бы противоречием и ересью это ни казалось, – что введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперед. Ведь нельзя отрицать того факта, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы вырваться из варварского состояния. Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного деспотизма, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперед по пути развития, и их ближайший экономический прогресс состоял в увеличении и дальнейшем развитии производства посредством рабского труда. Ясно одно: пока человеческий труд был еще так малопроизводителен, что давал только ничтожный избыток над необходимыми жизненными средствами, до тех пор рост производительных сил, расширение обмена, развитие государства и права, создание искусства и науки – все это было возможно лишь при помощи усиленного разделения труда, имевшего своей основой крупное разделение труда между массой, занятой простым физическим трудом, и немногими привилегированными, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также искусством и наукой. Простейшей, наиболее стихийно сложившейся формой этого разделения труда и было как раз рабство. При исторических предпосылках древнего, в частности греческого, мира переход к основанному на классовых противоположностях обществу мог совершиться только в форме рабства. Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась основная масса рабов, оставлялись теперь, по крайней мере, в живых, между тем как прежде их убивали, а еще раньше даже жарили и поедали.
Заметим кстати, что все до сих пор существовавшие в истории противоположности между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетенными классами находят свое объяснение в той же относительно неразвитой производительности человеческого труда. До тех пор, пока действительно трудящееся население настолько поглощено своим необходимым трудом, что у него не остается времени для имеющих общее значение общественных дел – для руководства работами, ведения государственных дел, для отправления правосудия, занятия искусством, наукой и т. д., – до тех пор неизбежно было существование особого класса, который, будучи свободным от действительного труда, заведовал указанными делами; при этом он никогда не упускал случая, чтобы, во имя своих собственных выгод, взваливать на трудящиеся массы все большее бремя труда. Только громадный рост производительных сил, достигнутый благодаря крупной промышленности, позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества и таким путем сократить рабочее время каждого так, чтобы у всех оставалось достаточно свободного времени для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, лишь теперь стал излишним всякий господствующий и эксплуатирующий класс, более того: он стал прямым препятствием для общественного развития; и только теперь он будет неумолимо устранен, каким бы «непосредственным насилием» он ни располагал.
Итак, когда г-н Дюринг строит презрительную мину по поводу того, что греческий мир был основан на рабстве, то он с таким же правом может поставить в упрек грекам, что они не имели паровых машин и электрического телеграфа. А когда он утверждает, что наше современное наемное рабство представляет собой лишь несколько видоизмененное и смягченное наследие прежнего рабства и не может быть объяснено из себя самого (т. е. из экономических законов современного общества), то это либо означает только то, что и наемный труд, и рабство представляют собой, как это известно каждому ребенку, формы порабощения и классового господства, – либо же это утверждение неверно. Ведь с таким же правом мы могли бы сказать, что наемный труд может быть объяснен только как смягченная форма людоедства, которое, как в настоящее время установлено, везде было первоначальным способом использования побежденных врагов.
Из всего сказанного ясно, какую роль играет в истории насилие по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая власть основывается первоначально на какой-нибудь экономической, общественной функции и возрастает по мере того, как члены общества вследствие разложения первобытных общин превращаются в частных производителей и, следовательно, еще больше увеличивается отчужденность между ними и носителями общих, общественных функций. Во-вторых, после того как политическая власть стала самостоятельной по отношению к обществу и из его слуги превратилась в его господина, она может действовать в двояком направлении. Либо она действует в духе и направлении закономерного экономического развития. Тогда между ней и этим развитием не возникает никакого конфликта, и экономическое развитие ускоряется. Либо же политическая власть действует наперекор этому развитию, и тогда, за немногими исключениями, она, как правило, падает под давлением экономического развития. Этими немногими исключениями являются те единичные случаи завоеваний, когда менее культурные завоеватели истребляли или изгоняли население завоеванной страны и уничтожали его производительные силы или же давали им заглохнуть, не умея их использовать. Так поступили, например, христиане в мавританской Испании с большей частью оросительных сооружений, которым мавры обязаны были своим высокоразвитым хлебопашеством и садоводством. Каждый раз, когда завоевателем является менее культурный народ, нарушается, как само собой понятно, ход экономического развития и подвергается уничтожению масса производительных сил. Но при длительном завоевании менее культурный завоеватель вынужден в громадном большинстве случаев приспособиться к более высокому «хозяйственному положению» завоеванной страны в том виде, каким оно оказывается после завоевания; он ассимилируется покоренным народом и большей частью вынужден усваивать даже его язык. А если оставить в стороне случаи завоеваний, то там, где внутренняя государственная власть какой-либо страны вступала в антагонизм с ее экономическим развитием, как это до сих пор на известной ступени развития случалось почти со всякой политической властью, – там борьба всякий раз оканчивалась ниспровержением политической власти. Неумолимо, не допуская исключений, экономическое развитие прокладывало себе путь; о последнем, наиболее разительном примере в этом отношении мы уже упоминали: это Великая французская революция. Если бы «хозяйственное положение», а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны попросту зависели, в согласии с учением г-на Дюринга, от политического насилия, то было бы невозможно понять, почему Фридриху-Вильгельму IV не удалось после 1848 г., несмотря на всю его «доблестную армию»[122], привить средневековое цеховое устройство и прочие романтические причуды железнодорожному делу, паровым машинам и начавшей как раз в это время развиваться крупной промышленности его страны; или почему русский царь[123], который действует еще гораздо более насильственными средствами, не только не в состоянии уплатить свои долги, но не может даже удержать свое «насилие» иначе, как беспрерывно делая займы у «хозяйственного положения» Западной Европы.
Для г-на Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое. Первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением. Вся его доктрина есть нытье по поводу того, что этот акт насилия заразил первородным грехом всю историю вплоть до настоящего времени, что все законы природы и законы социальные позорно извращены этим орудием дьявола – насилием. Что насилие играет в истории еще и другую роль, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы, – обо всем этом ни слова у г-на Дюринга. Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность того, что для ниспровержения эксплуататорского хозяйничанья понадобится, может быть, насилие – к сожалению, изволите видеть, ибо всякое применение насилия деморализует, дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции! И это говорится в Германии, где насильственное столкновение, которое ведь может быть навязано народу, имело бы по меньшей мере то преимущество, что вытравило бы дух холопства, проникший в национальное сознание из унижения Тридцатилетней войны. И это тусклое, дряблое, бессильное поповское мышление смеет предлагать себя самой революционной партии, какую только знает история?
V. Теория стоимости
Прошло примерно сто лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, выдержавшая к началу нашего века более 30 изданий; она распространялась в городе и в деревне властями, проповедниками и филантропами всякого рода и повсюду рекомендовалась народным школам в качестве книги для чтения. Книга эта называлась: «Друг детей» Рохова[124]. Она имела целью давать наставления юным отпрыскам крестьян и ремесленников относительно их жизненного призвания, их обязанностей по отношению к начальникам, общественным и государственным, и в то же время внушать им благодетельное довольство своим земным жребием – черным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отеческими розгами и тому подобными прелестями, и все это с помощью распространенного тогда просветительства. С этой целью молодежи города и деревни разъяснялось, сколь мудро устроила природа, что человек должен добывать себе трудом средства к жизни и наслаждению, и сколь счастливым, следовательно, должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник оттого, что судьба дала ему возможность приправлять свою трапезу горьким трудом, – тогда как богатый обжора, вечно страдающий расстройством желудка, несварением или запором, лишь с отвращением проглатывает самые изысканные яства. Те самые общие места, которые старый Рохов считал достаточными для саксонских крестьянских детей своего времени, г-н Дюринг преподносит нам на 14-й и следующих страницах своего «Курса» как нечто «абсолютно-фундаментальное» в новейшей политической экономии.
«Человеческие потребности как таковые имеют свою естественную закономерность, и росту их поставлены известные границы; временно переступать эти границы может только противоестественная извращенность, да и то лишь до тех пор, пока в результате этого не последуют отвращение, пресыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность и, наконец, спасительная гибель… Жизнь-игра, наполненная одними удовольствиями, без дальнейшей серьезной цели, скоро ведет к пресыщению или, что то же самое, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд, в той или иной форме, есть, следовательно, естественный социальный закон здоровых образований… Если бы инстинкты и потребности не имели противовеса, то они вряд ли привели бы к обеспечению даже примитивно-детского существования, не говоря уже об исторически повышающемся развитии жизни. Если бы полное удовлетворение потребностей не стоило никакого труда, то они скоро исчерпали бы себя, оставив за собой пустое существование в виде тягостных промежутков, продолжающихся до тех пор, пока потребности не возвратятся вновь… Таким образом, удовлетворение инстинктов и страстей зависит от преодоления того или иного хозяйственного препятствия, и это является во всех отношениях благотворным основным законом внешнего устройства природы и внутренних свойств человека» и т. д., и т. д.
Как видит читатель, пошлейшие пошлости почтенного Рохова празднуют в книге г-на Дюринга свой столетний юбилей и преподносятся вдобавок в качестве «более глубокого основоположения» единственной истинно-критической и научной «социалитарной системы».
Заложив такого рода основу, г-н Дюринг может строить дальше. Применяя математический метод, он дает нам сначала, по примеру старика Евклида, ряд дефиниций[125]. Это тем более удобно, что он может свои дефиниции с самого начала конструировать так, чтобы положения, которые должны быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в них. Так, мы узнаём прежде всего, что руководящее понятие прежней политической экономии называется богатством, а богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и в той форме, в какой развивалось его господство, есть «экономическая власть над людьми и вещами».

