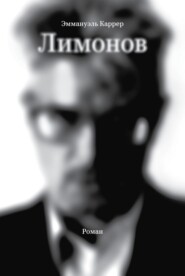
Полная версия:
Лимонов
Эта реплика мгновенно остужает мой энтузиазм. Истина оказывается на стороне людей трезвых, тех, кто всё понимает и не дает запудрить себе мозги. Она на стороне моего проницательного друга Павла, который убежден, что вся история с демократической оппозицией в России – нечто вроде попытки провести рокировку, играя в шашки: этот маневр правилами не предусмотрен и не сработает никогда. Каспаров, который минуту назад казался мне почти русским Валенсой, становится похожим на Франсуа Байру[9]. Его речь начинает казаться чересчур высокопарной и путаной, а мы с соседом-англичанином превращаемся в школьников-шалопаев, усевшихся в дальнем углу класса, чтобы рассматривать под партой неприличные картинки. Я показываю ему книгу Лимонова, которую только что купил. Издана она, разумеется, в Сербии, называется «Анатомия героя» и содержит несколько превосходных фотографий, изображающих упомянутого героя, Лимонова himself, позирующего в камуфляжной форме рядом с сербским ополченцем Арканом, с Жаном-Мари Ле Пеном, с русским популистом Жириновским, с солдатом удачи Бобом Денаром и некоторыми другими гуманистами. «Чертов фашист…» – комментирует англичанин.
Мы оба одновременно поднимаем глаза на Лимонова. Он сидит рядом с Каспаровым, чуть откинувшись назад, и слушает, как тот жалуется на преследования со стороны властей. При этом на лице у него нет и следа того нетерпения, какое обычно читается на лицах политиков на митинге: дождаться момента, когда оратор замолчит, чтобы начать наконец говорить самому. Он сидит, выпрямив спину, спокойный и внимательный, как монах дзен-буддист во время молитвы. Эмоциональная речь Каспарова начинает восприниматься как посторонний шум: теперь я не могу оторвать глаз от лица Лимонова, и чем пристальнее в него всматриваюсь, тем отчетливее понимаю, что не имею ни малейшего представления, о чем он думает. Действительно ли он верит в оранжевую революцию? Или его, бешеного пса, человека, живущего по собственным законам, просто забавляет изображать из себя правоверного демократа среди бывших диссидентов и борцов за права человека, которых он всю жизнь считал наивными глупцами? И ему доставляет удовольствие чувствовать себя волком, попавшим в овчарню?
Нахожу в блокноте еще один пассаж из «Дневника неудачника»: «Да, я принял сторону зла – маленьких газеток, сделанных на ксероксе листовок, движений и партий, которые не имеют никаких шансов. Никаких. Я люблю политические собрания, на которые приходят несколько человек, какофоническую музыку неумелых музыкантов, у которых на лице написано, что они хронические неудачники. Играйте, играйте, милые… И я ненавижу симфонические оркестры, балет, я бы вырезал всех виолончелистов и скрипачей, если б когда пришел к власти».
Я хотел было перевести этот кусок английскому журналисту, но в этом не было нужды, потому что нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. Он наклонился ко мне и сказал, на этот раз совершенно серьезно: «Тем, кто рядом с ним, надо быть начеку. Если он когда-нибудь дорвется до власти, то в первую очередь перестреляет их всех».
Статистической ценности мои наблюдения, конечно, не представляют, и всё же: готовя репортаж о Лимонове, я поговорил по меньшей мере с тремя десятками человек. Начиная от случайных собеседников, которые подвозили меня в своей машине (в Москве практически все автовладельцы подрабатывают извозом), кончая друзьями, которых, хотя и с некоторой оговоркой, можно назвать русской богемной буржуазией, – артистами, журналистами, издателями, покупающими мебель в IKEA и читающими русскую версию журнала Elle. Это всё люди скептического ума, и тем не менее ни от одного я не услышал о Лимонове ничего плохого. Никто не произнес слова «фашизм», а когда я настаивал: «Ну а как же эти флаги, эти лозунги…» – мои собеседники пожимали плечами, видимо находя меня чересчур наивным и впечатлительным. Они реагировали так, словно мне предстояло брать интервью одновременно у Лу Рида, Уэльбека и Кон-Бендита[10]: две недели с Лимоновым, как тебе повезло! Отсюда совершенно не следует, что все эти вполне разумные люди были готовы голосовать за него, – во всяком случае, надеюсь, не больше, чем французы за Уэльбека, если бы им представился такой случай. Просто этот скандалист им нравился, они восхищались его талантом и смелостью, и газеты, которые о нем много пишут, это знают. Короче говоря, он – звезда.
Я иду вместе с ним на вечеринку радиостанции «Эхо Москвы» – одно из самых заметных светских мероприятий сезона. Он приходит туда в сопровождении охранников, а также своей новой жены Екатерины Волковой, молодой актрисы, снявшейся в популярном телевизионном сериале. В политико-журналистском бомонде, который собрался там в тот вечер, они, казалось, знали всех: никого так громко не приветствовали и так много не фотографировали, как эту пару. Мне хотелось, чтобы после вечеринки Лимонов предложил мне поужинать с ними, но он этого не сделал. Он не пригласил меня и в квартиру, где живет Екатерина с их маленьким ребенком (в тот же вечер я узнал, что у них восьмимесячный сын). Очень жаль: мне хотелось бы увидеть место, где воин отдыхает от мытарств подпольного существования. Мне хотелось бы понаблюдать за ним в непривычной для него роли отца семейства. И особенно интересно было поближе познакомиться с Екатериной. Она хороша собой и демонстрирует ту манеру светского поведения, которая, как я полагал, свойственна лишь американским актрисам: охотно смеется, восхищается всем, что вы говорите, и мгновенно забывает о вас, если рядом появляется более важная персона. Мне всё же удалось поболтать с ней минут пять возле буфета, и этого ей вполне хватило, чтобы с неподражаемым простодушием сообщить, что до встречи с Эдуардом она не интересовалась политикой, а вот теперь поняла: Россия – тоталитарное государство, поэтому бороться за свободу, участвовать в маршах несогласных необходимо. Что она и проделывает с той же серьезностью, с какой посещает семинары по йоге. На следующий день я прочел интервью с ней в журнале для женщин: Екатерина дает советы, как быть красивой, и томно позирует в обнимку со своим мужем-оппозиционером. Но больше всего меня озадачило то, как она отвечала на вопросы о политике: она повторяла то же самое, что говорила мне, и безо всякой опаски нападала на Путина. У нас так нападать на Саркози могла бы себе позволить, например, актриса, участвующая в движении в защиту прав нелегальных мигрантов. Я пытаюсь представить, чем бы всё обернулось, если бы нечто подобное было напечатано во времена Сталина или хотя бы Брежнева, хотя представить такое трудно. И прихожу к выводу, что путинский тоталитаризм не так уж страшен: бывает много хуже.
4
Я никак не могу совместить в своем сознании эти два образа: писатель-неформал, с которым я раньше был знаком, и серьезный политик, знаменитость, которому журналы посвящают восхищенные статьи в рубрике «Персона». Мне приходит в голову, что, возможно, я смогу во всем разобраться, если поговорю с членами его партии – рядовыми нацболами. Бритые затылки, которые каждый день возили меня в черной «Волге» к своему лидеру и поначалу внушали мне некоторую робость, оказались симпатичными ребятами, но были не очень разговорчивы. Или я не сумел найти к ним подход. Выходя после совместной с Каспаровым пресс-конференции, я подошел к одной девушке – она мне просто понравилась – и спросил, не журналистка ли она. Оказалось, что я угадал, к тому же выяснилось, что она работает для интернет-сайта Национал-большевистской партии. Очаровательная, скромная, хорошо одетая девушка оказалась нацболом.
Через новую знакомую я познакомился с еще одним членом партии; он тоже оказался симпатичным, хотя и был засекреченным руководителем московского отделения НБП. Длинные волосы, собранные в хвост, открытое лицо, дружелюбный взгляд – парень совсем не был похож на фашика, скорее на активиста движения антиглобалистов или левого неформала вроде сподвижников группы «Тарнак»[11] или членов «Фракции Красной армии» Баадера[12]. У него дома, в маленькой квартире на окраине города, есть диски Ману Чао, а по стенам развешаны картины в стиле Жан-Мишеля Баския, написанные его женой.
«А жена поддерживает твою политическую борьбу?» – интересуюсь я. «Да, конечно, – уверяет он, – только она сейчас в тюрьме. Она была среди тех тридцати девяти членов НБП, которых судили в 2005 году. Тот процесс, на котором присутствовала Политковская».
Парень произнес это с широкой улыбкой, явно гордясь женой. А если он сам находится на свободе, так это не его вина, просто, как он считает, «ему не повезло». Но это не страшно: может быть, повезет в следующий раз.
Вместе с ним мы отправляемся на заседание Таганского районного суда, где как раз сейчас идет процесс над несколькими нацболами. Маленький, тесный зал, обвиняемые сидят в клетке в наручниках, на трех скамейках для публики их друзья, всё сплошь товарищи по партии. На скамье подсудимых семеро, выглядят очень по-разному: от студента с бородкой до мусульманина в толстовке с надписью «Working class hero»[13]. Среди них одна женщина, чуть постарше остальных, бледная, со спутанными черными волосами, довольно красивая, нервно катает в пальцах сигарету – тип преподавательницы истории, симпатизирующей левым. Все обвиняются в хулиганстве – иными словами, в драке с юными путинистами. С обеих сторон – легкие ушибы и порезы. Когда обвиняемым задают вопросы, они объясняют, что путинисты начали первыми, но их почему-то никто не судит, что данный процесс – чисто политический. И что за свои убеждения приходится платить: никаких проблем, они заплатят. Защита подчеркивает, что обвиняемые – никакие не хулиганы, что они – серьезные ребята, студенты, хорошо учатся, что предварительное заключение длится уже год и что этого вполне достаточно. Судью приведенные аргументы не убеждают. Объявляется вердикт: по два года каждому. Охрана уводит осужденных, они смеются, поднимают над головой сжатый кулак и выкрикивают: «До последней капли крови!» Товарищи смотрят на них с завистью: они – герои.
Молодых людей, бунтующих против цинизма, который стал в России настоящей религией, в стране тысячи, может быть, даже десятки тысяч, и Лимонов – их настоящее божество. Человек, который годится им в отцы, а самым юным – даже и в дедушки; его жизнь полна приключений, а в двадцать лет об этом мечтает каждый. Для них он – живая легенда, и стержень этой легенды, то, что заставляет их ему подражать, – cool героизм, который он демонстрировал, находясь в заключении. Он сидел в Лефортово, в тюрьме КГБ, а это заведение, если верить тюремным преданиям, будет покруче Алькатраса. Зэк Лимонов прошел через лагеря строгого режима и выстоял, не сломался. Находясь в заключении, он не только сумел написать семь или восемь книг, но и оказывал реальную поддержку товарищам по камере, для которых был не просто суперавторитетом, а почти святым. В день, когда он выходил на свободу, охранники и заключенные вырывали друг у друга его вещи, чтобы помочь ему их нести.
Когда я спросил у самого Лимонова, как это было – его жизнь за решеткой, он поначалу ограничился обычным «нормально», что по-русски означает «окей», «никаких проблем», «ничего особенного». И лишь позже рассказал мне одну маленькую историю.
Из Лефортово его этапировали в лагерь в Энгельсе – маленьком городке на Волге. Это было образцовое учреждение, новенькое, с иголочки, плод творческих поисков амбициозных архитекторов, которое охотно показывали заезжим визитерам, дабы иностранцы сделали лестные выводы о состоянии российской пенитенциарной системы. Сами же зэки называли лагерь в Энгельсе «евроГУЛАГом», и Лимонов уверяет, что архитектурные изыски отнюдь не сделали его более приятным для обитания, чем классические бараки, окруженные колючей проволокой. Скорее наоборот. Любопытная деталь: раковины в умывальной комнате, под которыми проходит сливная труба, были сделаны из матированной стали; это выглядело очень элегантно и напоминало элитную гостиницу, оборудованную известным дизайнером Филиппом Старком. В такую в конце восьмидесятых, во время последней поездки в Нью-Йорк, Лимонова поселил его американский издатель.
Эта мысль развеселила нашего героя. Такое сравнение не пришло бы в голову ни его сокамерникам, ни постояльцам элегантной нью-йоркской гостиницы. И он задумался о том, много ли на белом свете существует таких людей, как он, Эдуард Лимонов, чей жизненный опыт вместил бы целую вселенную – от заключенного-уголовника в лагере строгого режима на Волге до модного писателя, привычного к интерьерам от Филиппа Старка. Нет, пришел он к выводу, скорее всего, таких людей немного, и душа его преисполнилась гордостью, которая мне понятна. Именно это обстоятельство и натолкнуло меня на мысль написать о нем книгу.
Я живу в спокойной, слабеющей и стареющей стране с низкой социальной мобильностью. Рожденный в состоятельной буржуазной семье в Шестнадцатом округе Парижа, я перекочевал оттуда в богемную среду Десятого округа. Мой отец – высокопоставленный чиновник, мать – известный ученый-историк, я пишу книги и сценарии, а моя жена – журналистка. У родителей дом на острове Ре, на западном побережье Франции, где они проводят отпуск. Мне бы тоже хотелось иметь дом, но я бы предпочел Гард на юге страны. Я не считаю, что это плохо или что такая судьба обрекает на скудость жизненного опыта, но с точки зрения как географической, так и социокультурной нельзя сказать, что жизнь оторвала меня от моих корней. И то же самое я могу сказать в отношении большинства моих друзей.
Лимонов же успел побывать харьковской шпаной, кумиром андеграунда, бродягой, а позже слугой в доме миллиардера на Манхэттене, модным писателем в Париже, солдатом удачи на Балканах, а теперь, на бескрайних просторах постсоветского бардака, стал немолодым харизматичным вождем партии, состоящей из юных бунтарей. Сам он воспринимает себя как героя, другие же могут считать его негодяем; приводить здесь свое личное мнение я воздержусь. Анекдот об умывальниках в Энгельсе показался мне забавным, не более того, однако я подумал, что в романтичной и полной опасностей жизни моего героя зашифровано какое-то послание. Причем оно касается не только его самого или современной России, но также и нашей общей истории после Второй мировой войны.
Но в чем же его смысл? Я начинаю эту книгу, чтобы это понять.
I
Украина, 1943-1967
1
История начинается весной 1942 года в приволжском городке, до революции называвшемся Растяпино, а с 1929 года носящем имя Дзержинск – в честь Феликса Дзержинского, входившего в когорту первых большевиков и создавшего в стране политическую полицию, также неоднократно менявшую свое название: ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ – вплоть до нынешней ФСБ. В книге это учреждение будет появляться под тремя последними из своих угрожающих имен, хотя в России, помимо перечисленных пяти, имеет хождение еще одно, гораздо более мрачное, – органы. Война в самом разгаре, тяжелая промышленность демонтирована и с прифронтовых территорий перебазируется в тыл. Так в Дзержинск попадает завод по производству оружия, на котором занято всё население города; производство контролируют войска НКВД. Те времена были героическими и суровыми: рабочий, опоздавший в цех на пять минут, идет под трибунал, где суд вершат чекисты. Они же, в случае необходимости, и казнят, пуская приговоренному пулю в затылок. Однажды ночью, когда мессершмитты, проводившие разведку в низовьях Волги, сбросили на город несколько бомб, один из охранявших завод солдат освещал своим фонариком дорогу молодой работнице. Она вышла из цеха слишком поздно и бегом бежала в убежище. Девушка поскальзывается и хватается за плечо солдата, чтобы не упасть. Он видит татуировку у нее на запястье. В темноте, разрываемой сполохами пожара, их лица сближаются. А губы соприкасаются.
Солдата звали Вениамин Савенко, ему было двадцать три года. Он родился в деревне, в украинской семье. Будучи умелым электриком, был завербован НКВД, куда отовсюду собирались лучшие кадры. Поэтому, когда началась война, парень попал не на фронт, как большинство его ровесников, а в тыл – на охрану военного завода. Он служил далеко от родных мест, что в Советском Союзе являлось скорее правилом, чем исключением: депортации, ссылки, массовое переселение граждан; людей бесконечно перетасовывают; практически ни у кого нет шансов жить и умереть там, где родился.
Рая Зыбина – уроженка города Горький, бывшего Нижнего Новгорода, где ее отец служил директором ресторана. В СССР невозможно было ни владеть рестораном, ни управлять им, зато можно было стать его директором. Вообще собственное дело нельзя было создать с нуля или купить, но тебя могли назначить на какой-нибудь пост, а пост директора ресторана – отнюдь не худший. К несчастью, отца Раи с этого места уволили за растрату, отправили в штрафной батальон, и он попал на фронт под Ленинградом, где и погиб. Из-за отца на семью легло пятно, а по тем временам и в той стране это могло стоить жизни. То, что сын не должен расплачиваться за грехи отца, нам кажется одним из базовых принципов правосудия, но в советской реальности этот принцип не существовал и на него нельзя было ссылаться даже теоретически. Дети троцкистов, кулаков, выходцы из привилегированных классов царского режима были обречены на бесправное существование: им отказывали в приеме в пионеры, их не брали в университеты, не призывали в армию, не принимали в партию. Единственный шанс избежать такой судьбы – отречься от своих родных и выказывать как можно больше рвения и послушания. И поскольку рвение и послушание, по сути, означали разоблачение родителей, то лучших помощников, чем люди с подпорченной биографией, органам было не найти. Возможно, в случае с отцом Раи ситуацию несколько смягчило то обстоятельство, что он сложил голову на поле боя. Так или иначе, но факт остается фактом: и Зыбины, и Савенко пережили тридцатые годы – период Большого террора – без потерь. Правда, эти люди были слишком мелкой сошкой, что, возможно, сыграло свою роль. Но такое везение не избавило девушку от стыда за мошенничество отца; стеснялась она и татуировки, которую сделала, когда училась в техникуме. Позже Рая пыталась удалить ее соляной кислотой, потому что ей неловко было надевать платья с короткими рукавами; кроме того, как жена офицера, она должна была выглядеть прилично.
Беременность Раи почти день в день совпала со временем осады Сталинграда. Зачатый в тяжелейшие дни мая 1942 года, Эдуард родился 22 февраля 1943 года, через двадцать дней после капитуляции шестой армии Германского рейха, обозначившей перелом в войне. Ему потом часто будут говорить, что он – дитя победы, а мог бы родиться рабом, если бы множество мужчин и женщин, его соотечественников, не пожертвовали своими жизнями, чтобы выгнать врага из города, носившего имя Сталина. Позже о Сталине станут говорить много плохого, называть его тираном, с удовольствием обличать насаждавшийся им террор, но для людей поколения Эдуарда он останется верховным вождем народов СССР в самый трагический момент истории страны, победителем нацизма, человеком, способным на такой, например, поступок, достойный жизнеописаний Плутарха. Немцы захватили в плен его сына, лейтенанта Якова Джугашвили; русские под Сталинградом захватили в плен фельдмаршала Паулюса, одного из самых крупных военачальников рейха. Но когда высшее командование немецких войск предложило обмен, Сталин высокомерно отрезал, что фельдмаршалов на лейтенантов он не меняет. Яков покончил с собой в лагере для военнопленных, бросившись на колючую проволоку, по которой был пропущен электрический ток.
Из раннего детства Эдуарду запомнились две истории. Первая, трогательная, очень нравилась его отцу: она изображает младенца, спящего, вместо колыбели, в ящике из-под снарядов и с ангельской улыбкой сосущего вместо соски селедочный хвост. «Молодец! – одобряет Вениамин. – Правильный пацан! Нигде не пропадет!»
Вторая история не такая милая; ее рассказала Рая. Однажды авиационный налет застал ее на улице: она шла, неся ребенка на спине. Вместе с десятком прохожих Рая спряталась в подвале; укрывшиеся там люди были напуганы и безразличны. Пол и стены содрогались от взрывов, и сидевшие в подвале пытались по звуку определить, куда падают бомбы и какие дома будут разрушены. Маленький Эдуард начал плакать, чем привлек внимание, а потом и гнев одного из мужчин. Тот стал объяснять, что у фрицев есть ультрасовременная техника, которая позволяет обнаруживать живые мишени, что эти приборы реагируют даже на самый тихий звук и, если ребенок не перестанет плакать, их всех здесь убьют. Этот тип довел людей до такого состояния, что они выкинули Раю с ребенком на улицу, и ей пришлось под бомбами искать другое убежище. Вне себя от негодования, она внушала себе и сыну, что все разговоры о солидарности, о братстве – не более чем пустые россказни и верить им нельзя. «Правда заключается в том – запомни, Эдичка, – что люди трусливы и подлы, и они убьют тебя, если ты не успеешь ударить первым».
2
После войны города больше не называют городами, теперь это «населенные пункты», и молодая семья Савенко по прихоти начальства, которое никогда не учитывает желания служащего, мыкается по баракам и казармам в разных населенных пунктах на Волге, лишь в феврале 1947 года получив возможность окончательно пустить корни на Украине, в Харькове. Харьков – крупный промышленный и транспортный центр, чем и объясняется ожесточенная борьба за город, развернувшаяся во время войны: его брали, сдавали и снова брали то те, то другие войска, попутно истребляя мирное население и в конце концов превратив в развалины сам город. Здание из бетона на улице Красноармейской, построенное в конструктивистском духе, стало домом для семей офицеров НКВД – «ответственных работников», как их называли. Из его окон видно то, что до войны было величественным зданием городского вокзала, а теперь представляет собой лишь груды кирпича, камней и обломков металла, окруженные полосой зелени, куда детям ходить запрещено: в этих зарослях, помимо трупов немецких солдат, валялось немало неразорвавшихся мин и гранат. Одной из них оторвало руку маленькому мальчику. Этот пример не охладил пыл компании уличных мальчишек, к которой принадлежал и маленький Эдуард: они продолжали лазить по кустам в поисках патронов, извлекали из них порох и сыпали его на трамвайные рельсы. Когда проходил трамвай, раздавался треск, из-под колес вырывались фонтанчики искр, а однажды вагон просто сошел с рельсов – об этом происшествии ходили легенды. Старшие ребята в сумерках любят рассказывать страшные истории о мертвых фрицах, которые бродят по кустам, подкарауливая неосторожных прохожих. Или о том, как в столовых в мисках с супом находят отрубленные детские пальцы. Или истории о людоедах и о торговле человеческим мясом. В то время всех постоянно мучил голод, питались только хлебом, картошкой, но чаще всего гречневой кашей, которую обычно едят в бедных русских семьях. А иногда и в состоятельных парижских, как в моей, например: я горжусь тем, что умею ее готовить. Колбаса – это деликатес, на столе она появляется редко, а Эдуард ее обожает и мечтает, что, когда вырастет, станет колбасником. Вокруг нет ни собак, ни кошек, ни других домашних животных – их бы съели. Зато крыс огромное количество. Двадцать миллионов русских погибли на войне, и еще столько же осталось без крыши над головой. Многие дети лишились отцов, многие мужчины из числа оставшихся в живых теперь инвалиды. Почти на каждом углу стоит безногий или безрукий калека, а то и вовсе человеческий обрубок. Там же, на улицах, можно видеть беспризорных детей, чьи родители или убиты на фронте, или арестованы как враги народа. Эти дети голодны, они воруют и убивают, они совершенно одичали и бродят по улицам первобытными ордами, пугая прохожих. Они представляют опасность, и поэтому возраст уголовной ответственности, когда преступника можно карать вплоть до высшей меры, понижен до двенадцати лет[14].
Маленький мальчик восхищался своим отцом. Субботними вечерами он любил наблюдать, как отец чистит табельное оружие, как надевает форму, и был просто счастлив, если ему доверяли чистить отцовские сапоги. Засунув внутрь всю руку до самого плеча, он тщательно намазывает сапог ваксой; для каждой операции приготовлены специальные щетки и тряпочки – целый набор. Когда Вениамин уезжает в командировку, они занимают половину чемодана, который его сын с наслаждением упаковывает и распаковывает, мечтая о тех временах, когда у него будет свой такой же. По мнению Эдуарда, настоящими мужчинами могут считаться только военные, а дети, с которыми стоит дружить, – дети военных. А других он и не знал: семьи старших и младших офицеров, жившие в доме НКВД на Красноармейской улице, ходили друг к другу в гости и презирали гражданских, этих хнычущих, расслабленных существ, имеющих привычку ни с того ни с сего останавливаться посреди тротуара, загораживая путь солдату, который, в отличие от них, ровно и энергично печатает шаг со скоростью шесть километров в час, – Эдуард решил, что до конца жизни будет ходить только так.



