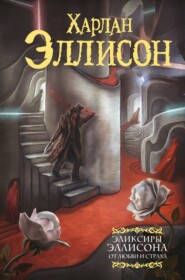
Полная версия:
Эликсиры Эллисона. От любви и страха
Барт Честер подсчитывал доходы и ухмылялся. Впервые в жизни он начал толстеть.
Две тысячи двести восемьдесят девятый «Спектакль» яркостью и увлекательностью ничуть не уступал первому, сотому или тысячному. Барт Честер развалился в своей ложе, почти забыв о сидевшей рядом ослепительной красотке. Завтра она снова вернется на сцену второразрядного театра на окраине, а вот «Спектакль» не денется никуда, а значит и деньги в его карман будут сыпаться и завтра, и потом.
Большая часть его сознания в зачарованном восторге следила за движениями актеров. Но деятельная частичка его продолжала прикидывать шансы – как всегда.
Восхитительно! Сказочно! Фантастическое зрелище, как написал «Нью-Йоркер»! Повсюду на фасадах окружавших Таймс-сквер зданий словно капли пота на коже огромного зверя висели ложи Честера. Недорогие места между Сорок пятой и Сорок шестой улицами, подороже – на зданиях, соседних с Таймс-билдинг. Рано или поздно, думал он, эти жмоты все же сломаются, и я смогу закрепиться и на «Таймс»!
«Больше шести лет в прокате! Круче, чем «Юг Тихого океана»! Черт, вот бы еще за вход на площадь деньги брать…» – он мысленно нахмурился при мысли о всех тех, кто смотрел «Спектакль» с улиц. Задаром! Толпы оставались такими же большими, как в самый первый день. Людям не надоедало смотреть эту пьесу. Они снова и снова возвращались сюда, не замечая течения времени. Представление всегда дарило наслаждение.
«Что за потрясающие актеры, – думал он. – Вот только…»
Эта мысль сформировалась у него в мозгу лишь наполовину. Расплывчатая. Но раздражающая. Засела занозой где-то в глубине сознания. Он передернул плечами, пытаясь отделаться от нее. С чего ему вообще терзаться какими-то сомнениями? Ну…
Он сосредоточился на «Спектакле». Это не требовало особых усилий, потому что актеры обращались непосредственно к сознанию, и так выходило глубже и яснее, чем если бы просто смотреть на сцену.
Он не сразу заметил, что настрой «Спектакля» изменился. Только что актеры исполняли замысловатый пируэт, а секунду спустя они вдруг выстроились у края платформы.
– Это не по сценарию! – сам себе не веря, выпалил он. Сидевшая рядом красотка схватила его за рукав.
– О чем это ты, Барт? – удивилась она.
Он раздраженно стряхнул ее руку.
– Я смотрел «Спектакль» сотни раз. Вот сейчас они должны столпиться вокруг вон той горбатой твари, похожей на птицу, и гладить ее. На что это они уставились?
Он не ошибался. Актеры смотрели сверху вниз на зрителей, которые тоже ощутили, что что-то идет не так, и начали неуверенно аплодировать. Пришельцы смотрели на них глазами, стебельками, ресничками. Они смотрели на людей, столпившихся на мостовых, рассевшихся по ложам – казалось, они заметили всех этих людей впервые с момента своего прибытия. Что-то шло совсем-совсем не так. Честер почувствовал это первым – возможно, потому, что не пропустил ни одного «Спектакля» с самого начала «проката». Теперь это ощущали и зрители. Толпы на улицах начали понемногу таять.
Честер, наконец, совладал со своими голосовыми связками.
– Что-то… что-то тут не так! Что они делают?
Платформа медленно заскользила вниз по поверхности корабля, но только когда один из актеров ступил с ее края в воздух, до него начало доходить.
И лишь спустя несколько секунд, когда ужас перед предстоящей бойней немного отпустил его, и он смотрел на маленького (сорока футов роста) актера, похожего на сгорбленную птицу, шагавшего через Таймс-сквер, он понял все.
Спектакль вышел замечательный, и актеры наслаждались интересом и вниманием зрителей. Шесть лет они жили одними аплодисментами. Настоящие артисты, кто бы спорил.
И до этой минуты голодали. Ради искусства.
II
Слова ужаса
«Я хочу, чтобы у людей волосы вставали дыбом, когда они читают мою работу, будь это любовный рассказ или милая детская сказка, или история, полная драмы и насилия».
Харлан Эллисон, ТВОРЦЫ МЕЧТЫ: НЕОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ПИШУЩИЕ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ. Интервью с Чарльзом Платтом, 1980.Многие считают слова «кошмар» и «ужас» синонимами, но на деле это создания совершенно разного толка. «Кошмар» воскрешает в сознании образы разлагающихся трупов, разверстых могил. Что-то гниющее, неуклюже шаркая, надвигается на нас, что-то совершенно отвратительное. Совсем другое дело «ужас», и он напрямую, совершенно однозначно связан со страхом. Харлан написал не так уж много ужастиков исключительно ради ужаса, хотя его полные ужаса рассказы могут иметь кошмарный конец. Если кошмар – это зловещий горный хребет, страх – это блестящий от пота лоб.
Эти рассказы полны скорее ужаса, нежели кошмара.
«Боль одиночества» (1964), вне всякого сомнения, представляет нам портрет одержимости, но его мрачность заключается не в судьбе героя, а в этой жуткой последней строке. (Хотя возможна и другая интерпретация, вытекающая из того, что Харлан предлагает в качестве ключа к пониманию рассказа: та машина из сна и ее заднее окно.) Страх в этом рассказе сконцентрирован в боли одиночества, при которой все остальное теряет свой смысл.
«Панки и Парни из Йеля» (1966) – на редкость жестокий взгляд на страх, как изнутри, так и извне. Здесь близнецы-иконы, деньги и власть повенчаны с виной. Боязнь Панки оказаться разоблаченным в качестве обманщика, шарлатана, вкупе с порожденной этой же боязнью бравадой ведут его в клоаку американского города навстречу его судьбе.
«Молитва за того, кто не враг никому» (1966) знакомит нас с призраками прошлого, которых этнические или личные проблемы сталкивают друг с другом, порождая ожидаемые и неожиданные конфронтации. Однако уроки из этого безумия извлекают двое подростков, стоящих вне центрального конфликта – именно их он вытряхивает из прежнего самодовольного невежества.
«Коротая срок» (1995) наносит мощный удар и с левой, и с правой. В нем индивидуальная, сугубо личная природа страха, который ощущает каждый из нас, превращается в нечто более скрытное, но, возможно, более глубокое, пронзительное. Какой бы трагичной, горькой и незабываемой ни казалась нам участь Чарли Лумшбогена, в еще большей степени ужасает чудовищная природа общества, которое может творить такое и при этом ощущать себя вполне благополучным, что подчеркивается здесь самодовольным рефреном и случайными замечаниями насчет проблем с площадями для хранения.
Три рассказа из Шестидесятых, один из Девяностых – но мораль их ни в коем случае не имеет ограничений по срокам.
Именно в моменты насилия, когда мы выступаем против чего-то, мы обнаруживаем то, во что верим, узнаем, есть ли у нас душа. Это поворотные моменты наших жизней.
«Эллисон говорит…», 1973Боль одиночества
Привычка к ней до сих пор отодвигала его на свою половину кровати. Несмотря на то, что ему не хватало места, чтобы раскинуть руки, или раздвинуть ноги, или лечь под каким-нибудь другим углом, он продолжал спать на своей половине кровати. Такой силы была память о ней, свернувшейся калачиком в центре или прижимающейся к нему спиной, когда их тела изображали пару вопросительных знаков, или как им еще придумывалось лежать в ту или другую ночь… словно она все еще продолжала лежать рядом. Но теперь лишь память о ее тепле держала его в заключении на своей половине. И, связанный по рукам и ногам воспоминаниями и физической потребностью в сне, он возвращался к этому орудию пытки, к этой кровати так редко, как только мог. Бодрствовал до ранних утренних часов, занимался какой-то бессмыслицей, смеялся над смеющимися, подметал дом до тех пор, пока от патологической чистоты не начал бормотать и срываться на визг беззвучно, про себя. Смотрел неинтересные ему фильмы, бесцельно прислушивался к ночным шумам за окном. И наконец, расплющенный грузом часов и требовавших своего телесных функций, падал в ненавистную ему кровать.
Чтобы спать только на своей половине.
Чтобы видеть сны, полные страха и жестокости.
Этот сон, этот чертов повторяющийся сон – все тот же, не считая мелких отличий: на ту же тему, из ночи в ночь, глава за главой одного и того же рассказа. Словно он купил книгу рассказов-ужастиков: все об одном и том же, но рассказанные по-разному; вот так и эта цепочка темных видений.
Сегодня на него напал номер четырнадцатый. Чисто выбритое дружелюбное лицо с широкой, обаятельной улыбкой. Ежик короткостриженых рыжеватых волос, каштановые брови – на первый взгляд все это создавало впечатление веселой, бесхитростной натуры, добряка, готового на дружбу без всяких условий. При других обстоятельствах, не сомневался Пол, они наверняка стали бы с этим парнем закадычными друзьями. Даже во сне он думал о нем как о «парне» – не как о «юноше», не как о «мужчине», не – что было бы точнее всего – как об убийце. В любом другом месте, за исключением этого подернутого дымкой кошмара, при любом другом сценарии они бы дружески похлопали друг друга по бицепсу и сказали бы друг другу что-нибудь типа: «Эй, чертяка, как сам?». Но это был сон, его последний по времени вариант, и этот славный парень из колледжа стал четырнадцатым. Четырнадцатым в бесконечной веренице симпатичных типов, посланных убить Пола.
Сценарий сложился уже давно, менялись только реплики и поступки персонажей (количество дублей не ограничено, детали расплывчаты – равно как и переходы между сценами, логика искажена, как и положено во сне). Пол был членом этой банды, или группы, или просто компании, как ее ни назови. Теперь все обернулись против него. Они твердо вознамерились его убить. Навались они на него всем скопом, это не составило бы труда. Но по какой-то причине, казавшейся логичной только во сне, это поручалось лишь одному из них, по очереди. И каждый раз, когда какой-то симпатичный тип пытался пришить его, Пол его убивал. Одного за другим, со всеми мельчайшими подробностями, с предельной жестокостью, разными, но равно отвратительными способами, – убивал. На него нападали уже тринадцать раз – вполне приличные, симпатичные люди, которых при других обстоятельствах он был бы рад назвать своими друзьями – и тринадцать раз он избежал смерти.
По два, по три, а то и (однажды) по четыре за ночь на протяжении нескольких последних недель (то, что он до сих пор убил всего тринадцать человек, было связано с тем, что иногда ему удавалось не спать вообще, а иногда он проваливался в сон полностью вымотанным, и ему не снилось ничего).
И все же самой мучительной частью сновидений были сами до невозможности жестокие схватки. Не какая-нибудь примитивная перестрелка, не достойное уважения отравление, не то, что можно было бы вспомнить, проснувшись, и чем можно было бы поделиться с кем-либо – просто странная, поданная со всеми неприглядными деталями схватка не на жизнь, а на смерть.
Один из убийц набросился на него с узким, невероятно острым стилетом, и Пол долго, бесконечно долго боролся с этим человеком, изрезав себе ладони и чувствительные складки кожи между пальцами, пока реальность смерти от ножа не захлестнула его трепещущее во сне тело с головой. Казалось, в нем проснулось ощущение неизбежности смерти. Из простого сна это перешло на какой-то новый уровень кошмара, с которым ему теперь предстояло жить. С этим предстояло свыкнуться. В конце концов, помнится он сжал руки нападавшего на рукояти его же собственного ножа и всадил его ему в живот глубоко, преодолевая сопротивление плоти, ощущая, как клинок прорывается сквозь упругую ткань внутренних органов. А потом выдернул стилет из тела смертельно раненого убийцы и бросился с ним на остальных (сам, или кто-то другой в его теле?), пока не прикончил всех. Одного, упавшего перед смертью на колени, он убил ударом обломка статуэтки из черного мрамора. Еще одному удалось сбежать, и он несся прочь, крича на бегу, пока Пол (оскалившись как хищный зверь) не столкнул его с края утеса. Наслаждение, с которым он наблюдал за долгим падением тела, ожидание столкновения с камнями внизу было, пожалуй, самым отвратительным на этом отрезке сна. Однако же за этим сновидением последовало другое, в котором очередной убийца напал на Пола с каким-то оружием, Пол даже забыл уже с каким именно, а Пол отбился от него тяжелой цепью, какую надевают зимой на шины грузовиков: сначала захлестнул цепь у того на шее и дернул так, что звенья прорвали кожу, а потом хлестал неподвижное тело, пока оно не перестало подавать признаков жизни.
Один за другим. Тринадцать человек, только сегодня уже двое, а теперь номер четырнадцать: симпатичный парень с обаятельной улыбкой и тяжелой кочергой в умелых руках. Эта кодла никогда не оставит его в покое. Он ускользал, он прятался, он пытался избежать необходимости убивать их, но они каждый раз находили его. Он бросился на этого парня, вырвал кочергу из его рук и с размаху ткнул в него острым концом. Он приготовился уже увидеть последствия этого удара (один конец кочерги был, действительно, острый как наконечник копья), когда одновременно зазвонили телефон и дверной звонок.
Мгновение полного, оглушительного страха он лежал на спине; ровная простыня на другой половине кровати чуть помялась под его откинутой рукой. На той половине кровати, где раньше спала она. На гладкой простыне, чуть помятой его рукой, его сном.
Телефон и звонок продолжали трезвонить нестройным дуэтом.
Что ж, зато они спасли его от необходимости видеть, во что превратилось от его удара лицо симпатичного парня. Этакие мелодичные спасители, на которые нажимает бдительный Господь, отмеряющий в каждый сон строго дозированное количество страха и унижения. Он прекрасно понимал, что следующий сон начнется ровно с того места, на котором оборвался предыдущий. И вряд ли стоило надеяться на то, что он сможет оттянуть этот следующий сон на год, на два – только бы не видеть, как умирает этот парень с обаятельной улыбкой. Он знал, что увидит это. Он лежал и слушал звонки, доносящиеся от двери и с тумбочки. Пускай трезвонят, пускай будят. Теперь он даже боялся отвечать на них.
Наконец он перевернулся на живот и протянул руку в темноту, которая не удерживала его. Он снял трубку, рявкнул в нее: «Подождите минуточку!», – перевернулся, спустил ноги с кровати и на автопилоте подошел к двери. Звонок прервался в очередной раз, он отворил дверь и в тусклом свете холла увидел только силуэт, лишенный конкретных черт. Он услышал голос, но слов не разобрал.
– Иду, иду, – раздраженно бросил он. – Ради бога, не закрывайте дверь, – он повернулся, вернулся к кровати, поднял лежавшую на подушке трубку и прокашлялся.
– Да, теперь все в порядке. Кто это?
– Пол? Что, Клер доехала к тебе? – он выморгал из уголков глаз комочки засохших слез и попытался идентифицировать голос. Кто-то знакомый, кто-то из друзей…
– Гарри? Это ты, Гарри?
Гарри Докстейдер на другом конце провода чуть слышно выругался.
– Ага, я, я. Скажи, Пол, Клер у тебя?
Поток света вдруг ослепил Пола Рида. Он зажмурился, снова открыл глаза, снова закрыл и, наконец, поморгав, открыл их окончательно – действительно, у двери стояла, держа руку на выключателе, Клер Докстейдер.
– Да, Гарри, она здесь, – только тут до него дошла вся дикость ситуации. – Гарри, что, черт подери, происходит? Клер здесь – почему же она не с тобой? Кой черт она здесь?
Это был безумный разговор, абсолютно лишенный смысла, но он еще не совсем проснулся.
– Гарри?
Голос на другом конце провода сорвался на рык.
А потом Клер стремительно яростно налетела на него.
– Дай мне трубку! – решительно потребовала она. Чеканя каждое слово, врезаясь в его слух слишком грубо для столь раннего часа, каждый слог ложился прочно, – и все это почти не разжимая губ, как умеют одни лишь женщины. – Дай же мне трубку, Пол. Дай мне поговорить с ним… Алло, Гарри? Сукин ты сын, гори ты в аду, гребаный ублюдок! У-у, ублюдок!
И буквально швырнула трубку.
Пол сидел на краю кровати, ощущая себя голым (хотя обнажен был только по пояс), босыми ногами на ковре. В столь ранний час женщины обычно не пользуются такими выражениями.
– Клер… что, черт подери, происходит?
Еще мгновение она стояла, трепеща от ярости – ни дать, ни взять разгневанная валькирия. Потом вдруг сразу поникла и, доковыляв до кресла, рухнула в него и разревелась.
– У-у, что за ублюдок! – повторила она. Не Полу, не умолкнувшему телефону – скорее, просто в воздух. – Этот жалкий бабник, этот вонючий скунс со своими потаскухами, со своими забулдыгами, которых он водит в наш дом. Господ и боже мой, и зачем я только вышла за этого вонючего скунса?
Это она говорила, само собой, уже не в воздух, а конкретно Полу. Даже без подробностей, даже в этот ранний час, это так сильно напомнило Полу о его собственном недавнем прошлом, что он поморщился. А все слово «бабник». Его сестра назвала его так, узнав, что они с Жоржеттой разводятся. Гнусное слово «бабник». Оно до сих пор звенело у него в ушах.
Пол встал. Полуторакомнатная квартирка, в которой он жил один (теперь), вдруг показалась тесной и душной. Теперь, когда в ней была женщина.
– Кофе хочешь?
Она машинально кивнула, продолжая перебирать свои мысли как четки, с обращенным внутрь себя взглядом. Он прошел мимо нее в крошечную кухоньку. Электрическая кофеварка стояла на столе; он поднял ее и поболтал, проверяя, много ли осталось в ней с прошлого раза. Тяжелый всплеск убедил его, и он сунул вилку в розетку.
Когда он вернулся в комнату, она подняла на него взгляд. Он плюхнулся на кровать и поправил подушку под плечами.
– Ладно, – сказал он, протягивая руку к пачке сигарет, лежавшей рядом с телефоном. – Выкладывай. Кто это был на сей раз, и долго ли это тянулось, прежде чем ты его прищучила?
Клер Докстейдер прикусила губки так сильно, что на щеках появились недовольные ямочки.
– Да ты ничуть не лучше Гарри, как есть кобель. Только такой же вонючий скунс мог высказаться вот так!
Пол пожал плечами. Он был высок, подтянут, с копной светлых волос на голове. Он отбросил волосы со лба и прикурил. Он не хотел смотреть на нее. Некто у него в комнате, почти сразу после Жоржетты, слишком скоро. Тем более жена друга. Он затянулся.
«Вечно ты чем-то недоволен», – подумал он. Он казался слишком длинным для этой неприбранной кровати, такими женщины не интересуются, хотя, судя по всему, все обстояло вовсе не так, поскольку теперь она смотрела на него уже по-другому.
Настроение в комнате слегка, но изменилось, словно до нее вдруг дошло, что она не просто ввалилась к нему в комнату: она ввалилась к нему в спальню, в комнату, в которой не просто жили, но и занимались всякими другими вещами. Они находились очень близко друг к другу и, хотя обстоятельства удерживали их в рамках приличий, оба понимали, что в любую минуту все может измениться. Оба вдруг почувствовали себя неловко. Он подтянул простыню повыше, она отвернулась.
Хорошо хоть на кухне зафыркала, заклокотала кофеварка.
– Господи, который сейчас час? – спросил Пол (не столько у нее, сколько у самого себя, самозащиты ради). Он взял с тумбочки будильник и уставился на его дурацкий циферблат так, словно цифры что-то значили. – Бог мой, три часа! Вы что, ребята, спать вообще не ложитесь? – вот уж чья бы корова… Это он не спал, не ложился, так что кого он хотел обмануть этой репликой из дешевой постановки?
Она поерзала в кресле, оправляя задравшийся неприлично высоко подол, и Пол в который раз восхитился тем, что дарят взгляду мини-юбки. Настоящий подарок ценителю женских ног, каковым с изобретением мини-юбок он стал себя считать. Она перехватила его взгляд и пару секунд подержала его, только потом позволив ему испариться на дне ее собственных глаз, словно не заметив связанного с этим приглашения.
Все происходило даже слишком просто. Союз вины и возможности был заключен без оглядки на приличия или хотя бы их подобие. Пол жил один не слишком давно, чтобы ставить на первое место мораль, а Клер все еще кипела гневом. Никто не озвучил названия игры, но играли в нее оба, и оба знали, что это все равно произойдет.
И, стоило Полу Риду признать свое одиночество, как его чувство вины и его желания сообща начали толкать его (чего зря время терять, нет, ну скажите!) к адюльтеру, любовному действу, совершаемому без катализатора любви. Что-то неприятное начало происходить в пустом, темном углу его комнаты.
Впрочем, начала этого он не заметил.
– Почему ты решила удрать именно ко мне? – спросил он.
– Ты единственный, о ком я подумала, кто мог не спать в такой час… ну, и я не то, чтобы слишком внятно соображала… слишком разозлилась для того, чтобы думать, – она замолчала; она и так сказала больше, чем высказала словами. Из всех мест, куда она могла бы пойти, из всех людных баров, где кто-нибудь мог бы подцепить ее и трахнуть в отместку, из всех женатых знакомых, накопленных за годы жизни с Гарри, из всех дешевых гостиниц, где можно за восемь баксов провести вполне целомудренную ночь, она выбрала Пола с его гостиной, которая служила одновременно и спальней, а также дырой в мир, где из разочарования и боли рождается вина.
– Э… а… а кофе готов уже? – спросила она.
Он выскользнул из-под простыни, почти физически ощущая ее взгляд на своем теле, и прошел на кухоньку. Он чувствовал боль в тех местах, где совсем не хотел бы ее чувствовать, и он знал: все, что будет дальше – сплошная ошибка, и еще знал, что будет не просто презирать ее и себя после того, как это произойдет, после того, как они убьют нечто, возникшее между ними, но что он вообще почти не будет думать об этом. Он ошибался.
Когда он подавал ей чашку с кофе, их руки соприкоснулись, а взгляды встретились в первый раз по-новому, и в миллионный раз началось движение по кругу. А раз начавшись, оно уже не могло остановиться.
В то время, как в углу медленно, но верно, продолжало развиваться нечто безобразное, незамеченное пока никем. Их бессмысленная страсть стала повитухой при этих странных родах.
Одного механизма развода с лихвой хватило бы на то, чтобы размолоть его в тончайшую пыль. Одних только мелких болячек от необходимости ходить по квартире, где они прежде то и дело сталкивались друг с другом, от переговоров с адвокатом, от заполнения всяких анкет, от телефонных звонков, лишенных даже малейших попыток услышать друг друга, от взаимных обвинений и, что хуже всего, от неуклонно обостряющегося понимания очевидного факта: то, что пошло наперекосяк, было не реальным, не материальным, но сочетанием мыслей, мнений, пошедших прахом мечтаний. Совершенно не материальных, но настолько существенных, что они смогли разрушить его брак с Жоржеттой. Так, словно они физически вырвали ее из его рук, из его мыслей, из его жизни. Порожденные сознаниями их обоих призрачные диверсанты, единственной целью которых было разрушить, порвать в клочки их союз. И ведь эти мысли и неясные образы взяли-таки свое, так что теперь он обитал один в полуторакомнатной квартирке, пока она трещала погремушками, бормотала заклинания и варила зелья – все в строгом соответствии с колдовскими книгами по разводу. И по мере того, как развивался процесс их разделения – как валун, бездумно скатывающийся вниз по склону, сдержать нарастающую энергию качения которого возможно лишь почти невероятным усилием – его жизнь катилась по новым рельсам отдельно от нее, однако полностью определяемая самим фактом ее существования и реальности ее отсутствия.
Наутро она позвонила ему. Очередной разговор из многих, полных взаимных уколов, горечи и разгоряченных реплик, закончившийся тем, что он пожелал ей идти к черту, и что до окончательного решения суда она не получит от него ни цента, и что если ей не хватает денег, ему на это насрать.
– Суд присудил тебе сто двадцать пять долларов в месяц обеспечения, и это все, что ты получишь. Меньше на шмотки тратиться надо, тогда тебе вполне хватит на жизнь.
На другом конце трубки что-то прочирикали в ответ.
– Сто двадцать пять, детка, и точка! Заметь, это ты от меня ушла, не я от тебя, и не жди от меня потакания твоим безумным фортелям. Мы разошлись, Жоржетта, вдолби это себе в свою платиновую головку, между нами все кончено. Я сыт по горло тобой, я сыт по горло грязной посудой в раковине, твоей боязнью спускаться в метро, твоими «ах, не трогай моих волос» после твоих гребаных салонов красоты, а еще… ох, блин, даже перечислять не хочется. Короче, мой ответ тебе…
Его снова прервало чириканье, переданная по проводам желчь, усиленная электроникой, полная яда ненависть, которая лилась из трубки прямо ему в мозг.
– …Да? И тебя туда же, дура головожопая, и еще подальше. Иди к черту! Ни цента тебе от меня до окончательного вердикта, и насрать мне на то, сколько денег тебе не хватает!
Он шмякнул трубку на аппарат и пошел одеваться к предстоящему свиданию. Он подцепил девицу, брюнетку секретаршу, с которой познакомился в страховой конторе, но чувствовал себя при этом так, словно получал пособие по безработице – словно это полагалось ему по статусу, но особого облегчения не приносило.



