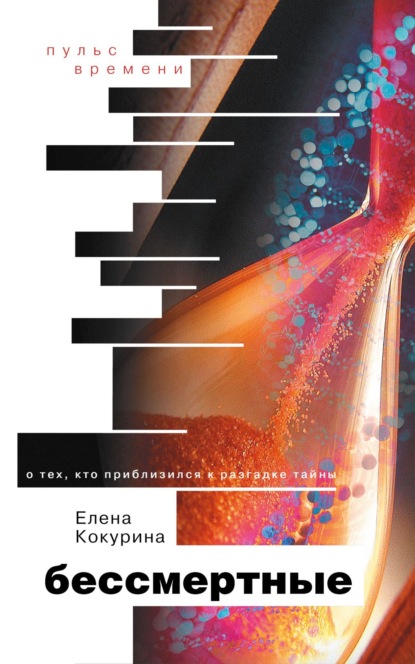
Полная версия:
Бессмертные. О тех, кто приблизился к разгадке тайны

Елена Кокурина
Бессмертные
О тех, кто приблизился к разгадке тайны
© Кокурина Е. В., 2015.
© ООО «Бослен», издание на русском языке, оформление, 2015
От автора
Это книга о продлении жизни. Книга о том, что делается в этом направлении сегодня, и о тех, кто это делает, – ученых, которые занимаются экспериментами в этой области. У каждого из них свой предмет исследований, свой путь в науке, своя судьба, свой взгляд на борьбу с возрастом и будущее. А у меня – свое восприятие этих людей и мира, в котором они работают. Вторая книга издательства «Бослен» в серии «Пульс времени» соответствует закону жанра: имена и события – реальные. Взгляд – субъективный.
Мне как научному журналисту и сотруднику фонда «Наука за продление жизни» посчастливилось за последние десять лет встретиться со всеми героями этой книги. И теперь у читателя есть возможность, познакомившись с ними, узнать о том, что в действительности происходит.
Как говорит один из героев: «Если уже сейчас сложить вместе то, что достигнуто в борьбе со старением, то можно продлить жизнь человека на 30-40 лет». Мне кажется, что даже просто разумное использование новых знаний поможет добиться хорошего результата.
А может быть, уже сделано гораздо больше того, что нам известно? И кто-то из героев книги является носителем этого тайного знания…
Здесь рассказано далеко не всё о науке продления жизни, упомянуты не все взгляды и гипотезы и, конечно, не все ученые, которые работают в данной области. Повторяю: это мой собственный взгляд на людей, исследования и мнения. Тем, кто хочет детально узнать об этих работах, рекомендую книгу доктора биологических наук Алексея Москалева «120 лет жизни – только начало» и иллюстрированный справочник Михаила Батина и Алексея Турчина «Футурология».
Еще одно важное добавление. В книге упоминаются конкретные лекарства, методы, рецепты: правдивость и откровенность документального жанра не позволили зашифровать их. Однако следует помнить, что книга – не рецепт и не руководство к действию. Даже ученые, главные эксперты в этих вопросах, пока спорят и не готовы поставить точки над «и». Давайте понаблюдаем, как все будет развиваться, в надежде, что очень скоро человечество ожидают большие перемены.
Пролог
Веранда отеля Рэдиссон в Манхэттен-Бич, Калифорния. Полдень
На лужайке за столиком на ланч собрались четверо – уже немолодая пара, молодой человек и женщина лет сорока. Все – с портфелями участников конференции. Молодой человек внимательно изучает меню и обращается к окружающим:
– Неплохо. Почти полный антиэйджинговый[1] набор: рыба, брокколи, ягоды, зеленый чай…
Потом вынимает из кармана легкого пиджака коробочку для пилюль, в которой обнаруживается примерно десять заполненных ячеек, методично проглатывает по таблетке из каждой, запивая водой.
– Что там у вас? – интересуется пожилой мужчина.
– Элементарные биодобавки и несколько новейших геропротекторов[2].
– Мы ограничиваемся цинком. Считаем, что «компот» из различных препаратов не очень эффективен: взаимодействие, противопоказания… – делится опытом собеседник. – На ночь – цинк, и прекрасно себя чувствуем. Отличный сон, внутреннее спокойствие.
В разговор вступает его спутница:
– Кстати, я здесь, на конференции, провела небольшой опрос. Вы даже не представляете, сколько всего принимают корифеи антиэйджинга! Есть препараты, которые давно известны, они помогают при разных заболеваниях, но, как показали недавние исследования, если их принимать в микродозах – продлевают жизнь.
Отель Рэдиссон, Сочи. Утро
В большом зале конгресс-центра гасят свет, чтобы лучше было видно изображения на слайдах. Таблицы с результатами генетических тестов сменяются графиком с множеством точек, образующих линию, ведущую вверх.
– Таким образом, ученым уже удалось в пять раз продлить жизнь мушки-дрозофилы, в десять – кольчатого червя-нематоды и, наконец, в два с половиной раза – мыши. Это пока рекорд для млекопитающих, и, как вы знаете, тому, кто его превысит, положен приз в миллион долларов. Мы можем надеяться и на существенное продление жизни человека.
Выступающий – пожилой американец, профессор одного из университетов на Среднем Западе – отвечает на вопросы.
– При помощи чего? – спрашивают из зала. – Какой-то специальный состав, таблетка?
– Возможно, геропротекторы сыграют свою роль, но мыши, если верить результатам экспериментов, прожили гораздо дольше своих собратьев благодаря ограничению питания. Я верю только в caloriс restriction[3].
Прокуренный паб напротив здания Куинз-колледжа, Кембридж. 8 p. m.
За большим дубовым столом собралась пестрая компания: мужчины разного возраста, кто в строгих костюмах, кто в свитерах и джинсах. Худой человек с длинной бородой в старом растянутом пуловере заказывает пиво на всех. Первая порция быстро испарилась, за ней последовала вторая, третья. Разговор, который до этого был спонтанным, то возникал, то затихал, вдруг прервался. Американец средних лет закрыл свой ноутбук, глотнул из кружки и обратился к бородатому:
– Скажи, а правда ли, что нейтральные воды бороздит некий корабль – «корабль долголетия» для избранных? Там практикуют не массаж и йогу, а технологии, основанные на наших открытиях. Пока мы пашем в лабораториях, проверяем, перепроверяем, публикуем статьи, кто-то отбирает самое главное и пускает в разработку.
– Нет такого корабля, – ответил человек с бородой. – Потому что «самого главного» нет…
– С каких пор для тебя главным стало «главное»? – было видно, что американец не очень-то поверил бородатому. Их разговор растворился в общем шуме.
Глава 1
Миссия
1Обри ди Грей припарковал велосипед на стоянке Куинс-колледжа и поспешил внутрь. Сначала заглянул в конференц-зал, где студенты-волонтеры проверяли микрофоны, видеотехнику, камеры. На большом экране светились огромные буквы SENS. Обри удовлетворенно кивнул, по привычке коснувшись своей бороды. Она была частью его имиджа, как, впрочем, и одежда. Всегда, в любых обстоятельствах – джинсы и в зависимости от обстоятельств – рубашка или свитер разной степени свежести. Но и «уровень свежести» тоже являлся частью образа, которым Обри управлял филигранно, хотя это требовало немалых усилий. Не так-то легко поддерживать загадочный и слегка потрепанный вид никогда не высыпающегося, не очень следящего за своей внешностью человека. Но к этому образу привыкли его многочисленные фанаты и почитатели, и он в полной мере соответствовал главной жизненной задаче Обри – привлечению как можно большего числа людей под знамена идеи радикального продления жизни.
В то утро Обри ди Грей, руководитель фонда Мафусаила, поддерживающего исследования в области изучения старения, разработчик «Стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами» (SENS[4] – если использовать английскую аббревиатуру) и организатор одноименной международной конференции, являл собой «аккуратную небрежность». Несмотря на ранний час и в этот раз действительно бессонную ночь (из-за огромного количества подготовительной работы), он выглядел свежим. На лице, обычно землистого оттенка, проступил румянец, глаза лучились энергией. Свои длинные волосы Обри, как всегда, собрал в хвост, подобрав для этого случая «праздничную» резинку под цвет демонстративно отглаженной рубашки.
Сегодня ему предстояло иметь дело не с простой публикой, а с учеными экстра-класса: генетиками, молекулярными биологами, биофизиками – самыми серьезными специалистами в области продления жизни. Уже пятый раз – с интервалом в два года – он специально для них устраивал конференцию в Кембридже.
Проходила она в первую неделю сентября, после отпусков, но до начала занятий, что давало возможность участникам жить в старинном колледже и наслаждаться его атмосферой. За последние несколько лет Обри завоевал доверие и уважение в этой непростой академической среде, несмотря на то, что сам не был биологом по образованию и не занимался в чистом виде лабораторными экспериментами. Он был больше философом, а к философам представители естественных наук относятся с пренебрежением, если не сказать с презрением. Но здесь была иная ситуация: исследователи, которых приглашал (теперь уже по своему выбору!) Обри ди Грей, выделялись из общего академического фона стремлением к новациям, они работали на острие науки, и потому им не был присущ консерватизм и снобизм коллег. Обри просто предоставлял этим людям площадку, возможность встретиться, узнать о полученных результатах (на SENSе представлялись в основном еще неопубликованные работы), подискутировать и просто пообщаться в неформальной обстановке – сам же оставался в тени. Его умная политика принесла свои плоды, и конференция SENS стала чрезвычайно популярной, но, несмотря на возросшее число желающих участвовать, Обри не хотел менять ни колледж, ни даже зал. Максимум 250 человек – только в этом случае можно сделать мероприятие по-настоящему эксклюзивным.
2Обри с самого раннего детства думал о смерти. Его, в отличие от сверстников, этот вопрос очень волновал, и он удивлялся – как люди могут жить спокойно и ничего не предпринимать? Даже не говорят об этом, как будто бы они вечны. Сначала он думал, что всем, кроме него, известен какой-то секрет, и поэтому никто не беспокоится. Он решил, что этот секрет открывается только взрослым, и стал терпеливо ждать. К 18 годам он уже точно знал, что никакого секрета нет, но надеялся, что его неустанно, день за днем, ищут биологи. Иначе зачем они вообще работают?
Сам он выучился на программиста и организовал небольшую компанию в Кембридже. Перелом в его жизни произошел в 1990 году, когда он встретил Аделаиду Карпентер, генетика из США, которая приехала в Англию на временную работу. Несмотря на разницу в возрасте – она была старше Обри на 19 лет, – они поженились. Их ежедневные беседы о науке открыли ему глаза и заставили резко изменить свою жизнь.
– Мы с тобой говорим об очень многих интересных результатах, которые можно было бы использовать для продления жизни, но почему ты об этом не думаешь? – спросил он как-то у жены. – Почему не хочешь возвыситься над повседневными рутинными задачами? Зачем вы все вообще этим занимаетесь – изучаете, синтезируете конкретные белки, гены? Просто ради любопытства? Почему не хотите признаться себе, что на самом деле все вы работаете для того, чтобы продлить человеку жизнь? Неужели никто из экспериментаторов откровенно не ставит такую задачу?
Аделаида задумалась.
– А ведь ты прав – никого не могу сейчас вспомнить… Все фундаментальные биологи, говоря о задачах, не идут дальше поиска лечения неизлечимого на сегодняшний день заболевания. Это самое большее. В основном же действительно никто не может провести линию от конкретного белка или гена до человеческой жизни. Как будто в мыслях натыкаются на какой-то незримый барьер…
Обри подхватил:
– Вот-вот! Но даже если мы говорим о поиске лечения, то зачем оно? Чтобы люди не умирали? Не умирали от одного конкретного заболевания, от другого конкретного заболевания, от рака… Пожалуй, это самая сложная задача. Но означает ли это, что люди не должны умирать вообще или, по крайней мере, жить радикально дольше? В здоровом состоянии, конечно.
Воодушевившись, он продолжал:
– Среди ученых-естественников говорить о радикальном продлении жизни считается дурным тоном. Но спроси любого человека – хочет ли он умереть завтра, и он скажет: «Нет». Почему же все принимают смерть в принципе, в каком-то отдаленном будущем? С моей точки зрения, только тяжелая болезнь, плохое самочувствие, немощь могут стать причиной нежелания жить. Именно этого боятся люди. Но они не понимают, что технологии, продлевающие жизнь, одновременно поддерживают здоровье. Иначе это не работает.
После разговора Обри окончательно осознал, что о радикальном продлении жизни всерьез задумываются одни лишь философы, которые, конечно, могут создать необходимую интеллектуальную базу, но не более. Он с ужасом подумал, что на самом деле никто, НИКТО из серьезных ученых целенаправленно над этим не работает. Каждый из нихзанимается своей «промежуточной», с точки зрения Обри, проблемой, не думая о главном. Эти исследования необходимо объединить, придать им общую цель, – тогда можно надеяться на результат.
Обри взял на себя роль «объединителя». Но начал с обоснования – не с далекой от реальной жизни заумной теории, а с конкретного плана.
«Стратегия достижения пренебрежимого старения инженерными методами» – SENS, которую разработал ди Грей, получилась относительно простой, довольно логичной и в какой-то степени изящной. Суть в том, что человек, с биологической точки зрения, будет стареть незначительно (пренебрежимо). За счет чего? За счет непрерывной «починки» организма и его регенерации на клеточном и молекулярном уровнях.
В процессе нашей жизни, когда клетки непрерывно делятся, в организме накапливается слишком много «мусора» и происходит множество всевозможных повреждений. Организм нужно регулярно чистить и ремонтировать, бороться с новыми и новыми повреждениями и таким образом поддерживать в «вечно» молодом и здоровом состоянии.
Основное допущение и постулат, на котором строится вся стратегия, заключается в том, что новые методы починки (терапии) совершенствуются быстрее, чем накапливаются повреждения. И при создании каждого следующего поколения терапий человек получает дополнительно 20-30 лет здоровой жизни. За это время методы починки переходят на следующий уровень, что дает еще 20-30 лет, и так – до бесконечности.
Обри пришло в голову очень удачное, на его взгляд, сравнение с полетом ракеты и отбрасывания ее ступеней – первая, вторая космическая скорость… За это время, выигранное с помощью включения «второй космической скорости», прогресс науки еще более ускорится. Так, постепенно отвоевывая «по кусочку» годы у смерти, можно достичь бесконечной жизни.
Обри выделил семь главных проблем, которые надо решать, чтобы поддерживать организм в «бесконечно нормальном состоянии».
1. Потеря клеток
Исчезновение клеток без появления новых происходит в некоторых наиболее важных тканях – в особенности в сердце и некоторых отделах мозга. Оно также наблюдается в мышцах. Иногда образующиеся промежутки заполняются за счет того, что клетки становятся крупнее (сердце). В других случаях они заполняются клетками иного типа или фиброзным бесклеточным материалом (мозг и сердце), в-третьих – заполнения не происходит вообще: ткань просто сжимается (мышцы).
Бороться с этой потерей можно тремя основными способами. Один из них – «естественное» стимулирование деления клеток. Это подобно тому, как физические упражнения ведут к росту мышечной массы. Другой – искусственное введение (например, с помощью инъекций) факторов роста, которые стимулируют деление клеток. Этот метод хорошо действует в мышцах и может оказаться эффективным для вилочковой железы, важной части иммунной системы. Однако как естественное, так и искусственное стимулирование деления клеток имеют свои ограничения. Это происходит отчасти потому, что система противораковой защиты организма обладает разнообразными блокирующими механизмами, предотвращающими чрезмерное деление клеток. Поэтому наверняка понадобится третий способ: он заключается во внедрении в организм новых клеток, модифицированных таким образом, чтобы они делились и восстанавливали потерю. Это должно происходить даже в том случае, когда присутствующие в организме клетки утратили способность к делению. В этом суть клеточной терапии.
2. Хромосомные мутации
Если их невозможно предотвратить, то необходимо создать действительно эффективное средство против рака. Метод, который предпочитает ученый, – предотвращение удлинения теломер[5] во всем организме. Обри предложил полностью устранить из всех клеток, которые могут делиться, гены для синтеза теломеразы[6]. Для этого нужно всего лишь один раз в десять лет заменять все популяции стволовых клеток новыми. Теломеры в них будут восстановлены, а собственной теломеразы не будет. Поэтому они смогут поддерживать ткани сколь угодно долго, одновременно предотвращая развитие рака до опасного для жизни уровня. При этом уже существующие в организме клетки нужно либо удалять, либо видоизменять их теломеразу и соответствующие гены прямо на месте. (Кстати, в момент создания стратегии (SENS) оба эти подхода были уже близки к техническому воплощению на мышах.)
3. Исключение мутаций в митохондриях
Митохондрия – внутриклеточная энергетическая станция. В отличие от любой другой части клетки, митохондрии синтезируют собственный белок, а значит, в какой-то момент могут перестать функционировать в результате мутаций. Необходимо разработать систему противодействия накоплению таких мутаций в митохондриях. Обри посчитал, что для решения этой проблемы все самое трудное уже выполнено эволюцией. Митохондрии очень сложны: в них содержится около 1000 различных белков, каждый из которых кодируется своим геном. Но почти все они находятся в клеточном ядре, и лишь 13 – в самой ДНК. Поэтому вместо того чтобы исправлять мутации, можно просто исключить их. Ученые могут сделать копии 13 оставшихся генов, которые исключить нельзя, и внедрить их в хромосомы ядра. Хромосомные копии будут работать практически во всех клетках в течение периода времени, намного превышающего нынешнюю продолжительность жизни. Решение такой задачи требует больших усилий, однако за последние несколько лет ученые уже достигли заметных успехов: в опытах на животных удалось перенести отдельные гены из митохондрий в ядерную ДНК.
4. Ненужные клетки
Существует три класса клеток, накапливающихся в организме в избыточных количествах: жировые, стареющие и некоторые типы иммунных клеток. Жировые имеют тенденцию расти или замещать мышечную массу, которую мы теряем с возрастом. Интересно, что самый заметный жир – подкожный – оказывается относительно безвредным в смысле провоцирования опасных для жизни заболеваний. Если, конечно, человек не достигает патологической тучности, когда общий вес жира и нагрузка на сердце таковы, что представляют собой угрозу для жизни. Есть и другая тенденция: накопление «висцерального» жира – в брюшной полости. Он играет весьма отрицательную роль. Прежде всего, вызывает снижение чувствительности мышц и клеток к сигналам, необходимым для усвоения сахара из крови, что в конце концов приводит к диабету второго типа. Поэтому нужно избавляться от избыточного висцерального жира.
Второй тип избыточных клеток – стареющие клетки. Они скапливаются в больших количествах в суставных хрящах, а также в других местах, но в меньших пропорциях. Однако и эти меньшие скопления могут быть весьма токсичны. Такие клетки неспособны делиться в нужное время и выделяют ненормально большое количество некоторых «вредных» белков.
Тре тий тип – иммунные клетки. Ситуация с ними значительно сложнее. С возрастом наступает дисфункция некоторых их типов. В них повреждается ДНК и как защитный ответ – останавливается дальнейшее размножение. Казалось бы, в подобных обстоятельствах самое разумное для клетки – умереть. Но это могло бы заставить другие аналогичные клетки продолжить деление, что вело бы к новым повреждениям ДНК. Поэтому организму более выгодно сохранять свои клетки, занимающие определенное жизненное пространство, даже если они не справляются со своими функциями.
Избавиться от ненужных клеток – задача намного более простая, чем многие другие в рамках SENS. Можно ввести препарат, который заставит такие клетки покончить жизнь самоубийством, но при этом не затронет нужные. Также можно стимулировать иммунную систему для уничтожения подобных клеток.
5. Избавление от внеклеточных перекрестных связей
Все белки внутри наших клеток регулярно разрушаются и воссоздаются, что в целом поддерживает их баланс. Однако некоторые белки образуются за пределами клеток на ранних этапах жизни и потом не возобновляются. А какие-то возобновляются, но крайне медленно. Эти «долгожители» подвержены химическим реакциям во внеклеточном пространстве. К счастью, функция, которую выполняют такие белки, обычно весьма проста. Они обеспечивают тканям эластичность (стенки артерий), прозрачность (хрусталик) или высокую прочность при растягивании (связки). Поначалу их случайные связи с другими молекулами почти не влияют на эти функции. Однако со временем возникают перекрестные связи. Белки, которые могли свободно скользить друг относительно друга, сшиваются. В результате теряется эластичность тканей. Особенно это опасно для артериальной стенки, потому что потеря ее эластичности становится причиной повышенного кровяного давления. По счастью, накапливающиеся таким образом перекрестные связи образуют множество весьма необычных для организма химических структур. Поэтому теоретически возможно создать химикаты, разрушающие перекрестные связи, но не затрагивающие полезные химические структуры организма. (И действительно, группа химиков обнаружила такую молекулу, существенно понижающую кровяное давление. В настоящее время она тестируется на многих животных, а также на людях.)
6. Очистка от внеклеточного мусора
Внеклеточные шлаки – это скопление материала, не выполняющего какой-либо функции. В идеале они должны были бы уничтожаться, но обладают огромной сопротивляемостью. Существует два основных вида таких шлаков. Один из них – ядра атеросклеротических бляшек. В принципе, их постоянно атакуют макрофаги[7], поедая частички ядра бляшки, но проблема в том, что макрофаги не могут расщепить поглощенный материал. Из-за этого они в конце концов погибают и сами становятся внеклеточным мусором.
Вторая серьезная проблема, связанная с внеклеточными шлаками, называется амилоид. Амилоидный белок образует скопления-бляшки в мозге страдающих болезнью Альцгеймера. Такой же процесс, но только более медленный, протекает в мозге каждого человека. Похожие скопления возникают и в других тканях при старении или развитии заболеваний, связанных с возрастом. Самое известное из них – островковые амилоидные бляшки при диабете 2-го типа.
Один подход, позволяющий предотвратить накопление внеклеточного мусора, уже предложен. Это вакцинация, стимулирующая иммунную систему на поглощение шлаков. Однако начальные клинические испытания вакцины пришлось прекратить из-за побочных явлений. И в настоящее время идет работа по ее усовершенствованию. Другой подход состоит в использовании небольших молекул для разрушения бляшек. Похоже, что поверхность бляшек может разрушаться с помощью пептидов (коротких белков), проникающих внутрь и подрывающих ее структурную целостность.
7. Очистка от внутриклеточного мусора
Существует много причин, из-за которых клетки расщепляют большие молекулы и структуры на составные компоненты. К сожалению, одна из основных заключается в том, что они модифицируются и больше не могут выполнять свои функции. Порой такие соединения имеют настолько необычную структуру, что с ними не справляется ни один из деструктурирующих аппаратов клетки. Подобные изменения весьма редки, но с течением времени они накапливаются в лизосомах[8]. Это не имеет значения, если клетки продолжают регулярно делиться, поскольку деление понижает концентрацию шлаков. Однако неделящиеся клетки постепенно наполняются шлаками, от чего чаще всего страдают клетки сердца, глазного дна, некоторые нервные клетки и более всего запертые в артериальной стенке лейкоциты. В конце концов они не выдерживают и перестают нормально функционировать.
Очистка клеток от мусора является чрезвычайно важной задачей. Самый перспективный путь – позволить клеткам расщеплять внутриклеточный мусор на месте, чтобы он не накапливался. Можно использовать дополнительные ферменты, способные разрушать шлаки. Можно решить задачу очистки клеток от мусора, используя генную терапию, но это очень сложный метод, который пока еще в экспериментах проходит не очень удачно. Но инженерный подход позволяет придумать массу разных способов, в том числе и возможность обойтись без генной терапии. Клетки, в которые нужно будет внедрить микробный ген, – это макрофаги, то есть особые лейкоциты, которые продуцируются в костном мозге. Поэтому можно произвести необходимые изменения в стволовых клетках крови наружно, а затем ввести их людям в виде трансплантата костного мозга.
Но над этим проектом нужно еще много работать. И какие из всех перечисленных методов дадут эффект, пока неизвестно.
3Обри «колдовал» над формулировкой стратегии несколько лет, подойдя к проблеме с позиций инженера. Он и мысленно, и на бумаге чертил схемы, набрасывал рисунки, манипулируя фрагментами, переставляя их местами, возвращая обратно. Но прежде он прошел курс биологии Кембриджа экстерном, под руководством жены. Она стала его единомышленником, консультантом, редактором. Наконец настал момент, когда Обри решил, что достаточно подготовлен, и отправился в Америку на небольшую, но престижную конференцию, где впервые представил свою стратегию.

