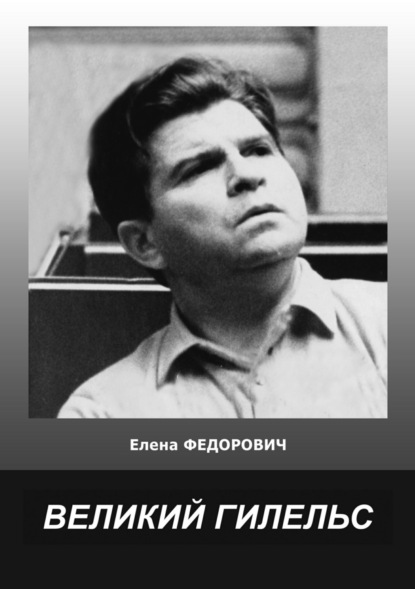 Полная версия
Полная версияВеликий Гилельс
Людям, подобным Гилельсу, всегда было трудно жить, потому что они идут прямым, честным путем. Бездарности в искусстве (как и во всем прочем) часто бывают взамен одарены особой способностью – приспосабливаться, юлить, прицепляться к чему-либо значимому. Вот этого «дара» у Гилельса, конечно, не было совсем. Отсюда – резкость, обижавшая многих. Оценивая по самым высоким, трудным меркам себя, он не мог занижать нравственную планку и по отношению к другим, а ей соответствовали очень немногие. И снова: неужели непонятно, что искренняя резкость такого человека ценнее, чем угодливый подхалимаж бесчестного? Не понимают.
Когда такой честнейший, «неудобный» человек вопреки всему достигает высших вершин, то это свидетельствует о даровании столь могучей силы, что никакие внешние противодействия не в состоянии этому помешать. К тому же, в дополнение к гениальности музыканта, у Гилельса была поразительная воля. Это и незыблемая самодисциплина; это и поступки, достижения, которые сейчас кажутся просто невероятными.
К примеру, мы знаем, что в 1938 г. Гилельс завоевал первую премию на Брюссельском конкурсе. Сейчас уже надо пояснять, особенно для молодых, что это означало, настолько ныне девальвировано звание лауреата. Конкурсов в то время были считанные единицы, а Брюссельский – самым сложным из них. Но это еще не все. Музыкантам известно (и не раз пересказано) что на прошении о том, чтобы Гилельса и Флиера выпустили за границу для участия в международном конкурсе, Сталин написал: «Гилельсу и Флиеру поехать в Брюссель. Занять первые места».
Трудно представить меру ответственности, лежавшей на двух молодых пианистах, – а младшему из них, Гилельсу, еще не исполнилось двадцати двух. Не выполнить распоряжение Сталина в 1938 году? А каково выполнить, одолев сильнейших соперников, а в жюри – крупнейшие музыканты эпохи: О. Клемперер, Л. Стоковский, К. Цекки, Э. Зауэр, В. Гизекинг, Р. Казадезюс, Арт. Рубинштейн… И не просто одолеть, а продемонстрировать убедительное, волнующее, глубокое искусство, и выходить на конкурсную сцену, сжав волю в кулак… А если не первое место, что тогда будет – не с самими только, но и со всеми близкими? Все это сейчас даже представить очень трудно. Здесь сверхъестественным было все: и талант, и мастерство, и воля.
Не случайно так стараются вычеркнуть Брюссель из биографии Гилельса, «забыть» его…
Собственно, качество воли невозможно отделить у Гилельса как «чисто человеческое» от «исполнительского». Воля слышна буквально в каждой ноте им сыгранного, он умел убеждать. Она спаяна с его виртуозностью, его мыслью и чувством, и буквально потрясает, когда вырывается наружу в пружинном ритме, гигантском фортиссимо. Но она грандиозна и в самых тонких, нежных лирических эпизодах и произведениях: это воля артистическая, умение подчинить всех своему чувству, включить «цепь высокого напряжения».
И не просто воля, а гордая воля; гордость – еще одно качество, которое слышно во всем сыгранном Гилельсом. Она же – в его поведении, в нежелании хоть сколько-нибудь способствовать ореолу вокруг своего имени. Он как бы говорил всем своим поведением: я ничего не скажу, я буду только играть, а вы уж слушайте и оценивайте сами как можете.
Неужели Эмиль Григорьевич переоценивал нас, своих слушателей?
Все эти качества – человеческо-исполнительские, потому что у гениального музыканта одно неотделимо от другого. Он мог на рояле все; он и играл всего себя в той же мере, как выражал композитора.
Эти свойства его личности оказались очень «невыгодными» для представления его как популярной фигуры – и при его жизни, и, тем более, сейчас. Помимо честности и немногословности, скромности и гордости, которые сами по себе всегда ставят человека в трудное положение, он отличался еще и абсолютным отсутствием всего, что могло бы вызвать нездоровый интерес. Никаких порочных привычек, скандальных историй – ничего. Высочайшая духовная работа и великая сосредоточенность на своем истинном деле.
Он не был «публичной» фигурой, не мелькал в «тусовках» (кроме вынужденных выступлений на различных правительственных мероприятиях), не занимался политикой. В последний период, видимо, предчувствуя, что ему не так много осталось жизни, отказался от всего, что уводило его от прямого дела, – ушел из жюри конкурсов, из консерватории. Спешил сделать то, что мог только он.
Это тоже выглядит немодным в постсоветский период; фигура Гилельса представляется сейчас молодежи как лишенная политического протеста, покорная. Но при этом забывают, что Гилельс умер, когда только подул первый свежий ветерок, эпоха была совсем другая; а в советские времена протестом было как раз молчание, неучастие. Много ли музыкантов открыто заявляли протест, когда это было опасно? Только Ростропович с Вишневской. У всех остальных смелость появилась только, когда это стало совершенно безопасным, – а Гилельса в это время уже не было. Об этом тоже не пишут, и меряют его поведение в иную эпоху сегодняшними мерками. Ну и, к тому же, его мужественнейший поступок по вызволению Нейгауза был не просто «забыт» теми, кому надлежало бы это очень хорошо помнить, но и чрезвычайно умело закамуфлирован, чтобы и потомком трудно было докопаться до правды. Уверена, что подобный поступок был у него не единичен.
Гилельс умер, не дожив даже до шестидесяти девяти. Нет сомнений, что, проживи хоть немного дольше он сам, и проживи дольше Баренбойм, семидесятилетие великого пианиста отмечалось бы более достойно, чем шестидесятилетие, когда ему дали звание Героя социалистического труда, которое ему было не нужно, и нанесли много обид в прессе. Но злой рок оборвал его жизнь и не дал закончить лучшую книгу о нем.
После смерти Гилельса в среде музыкантов ходили упорные слухи, что он скончался в результате врачебной ошибки. Эти слухи потом прямо повторил С.Т. Рихтер: «Тем не менее, обстоятельства его смерти ужасны. Перед очередным турне он пошел в поликлинику – обычная поверка состояния здоровья. Ему сделали укол, и через три минуты он умер. Это случилось в Кремлевской больнице. Всем известно, что врачи брались туда по признаку политической благонадежности. Из-за некомпетентности ему сделали не тот укол и убили его»216.
Не думаю, что такое было возможным. Известно, что в последний период он чувствовал себя плохо и находился в больнице. Мне кажется, что ближе к истине была С. Хентова, завершившая статью «Эмиль Гилельс знакомый и незнакомый» такими словами: «Он умер 69-ти лет. Он должен был жить дольше. Говорят, его смерть была результатом недосмотра кремлевских врачей. Я думаю, что его медленно убивала сама наша жизнь, одной из жертв которой стал этот счастливец».
Но и это не вся правда. С. Хентова, как обычно, намекает на его близость к власти – а власть, оказывается, была «плохая» и даже его, «счастливца» при ней, погубила.
На самом деле, видимо, его убила не только и не столько «наша жизнь». Его убил сложившийся ко второй половине его жизни какой-то почти фантастический симбиоз тоталитарной власти и постоянно интригующих специфических музыкальных кругов. Думаю, слухи о «врачебной ошибке» распускали те, кто хорошо знал, что сокращало его жизнь на самом деле. Странно, почему ни разу не высказались врачи? Обвинение им, которое сейчас повторяется уже и в печати, – серьезное.
Мужественный, волевой и гордый, он почти никогда не показывал, как его, тончайшего и ранимого на самом деле, мучила несправедливость; как омерзительны были ему, при его кристальной порядочности, те наплывы грязной пены, которые клубятся около искусства.
«Музыка молчала, когда смеркалось от забот повседневности. Проступала на поверхность усталость. Болью переполнялось сердце». Это слова самого Гилельса, фрагмент его статьи памяти Флиера. И пишет это он вроде бы о Флиере. Но, подобно тому, как исполнитель всегда играет и композитора, и самого себя, эти слова Гилельса – и о самом себе тоже. Такого просто нельзя придумать, не переживая это самому.
И он ушел. Ушел, не дожив чуть-чуть до того времени, когда хотя бы обвинения его в «советскости» сошли бы на нет, потому что в его искусстве никогда не было ничего советского, и это, наконец, поняли бы, продолжай оно звучать и в конце восьмидесятых, и далее.
В результате, в том числе и такого «своевременного» ухода, Гилельс оказался настолько удобной мишенью для того, чтобы изъять его с пианистического Олимпа, что сейчас в представлении многих он является неким олицетворением официального советского искусства, и только. Подразумевают, что его исполнение «неинтересно». Изымают его имя со страниц истории.
Начинали эту кампанию люди, понимавшие, что они делают, которым был неудобен честный, гордый, «нормальный» гений, своим божественным талантом мешавший обожествлять других. Продолжают, занимая воинствующую или просто равнодушную позицию, скорее всего, те, кто с искусством Гилельса уже плохо знаком.
В восприятии любого искусства (а исполнительского, наверное, особенно) очень многое субъективно. Если людям много раз сказать, что вот это гениально, а это – так себе, то большинство вскоре уверенно будет это повторять, причем искренне. Они станут на самом деле слышать именно так. Беда ведь еще в том, что по-настоящему разбираются в содержательных категориях исполнительского искусства очень немногие из имеющих музыкальное образование. Остальные, потеряв непосредственность дилетанта, не приобретают взамен истинного понимания профессионала, и они тем скорее присоединятся к авторитетному «мнению», чем больше их внутренняя неуверенность в собственной компетентности. Скорее – как все, повторять за всеми, не оказаться на обочине мнений! По крайней мере, по прочтении периодики об академической музыке и большей части изданий публицистического характера, посвященных музыкантам, складывается впечатление, что это основной посыл. И вот повторяются одни и те же имена, бесконечно, а то, что оказалось за пределами данного круга, – это все «примитив», «неинтересно», «бездуховно».
Вспомним, что писал Баренбойм о Гилельсе еще в середине восьмидесятых: «Всесветная почетная известность пришла к нему не потому, что была навязана и закреплена частыми повторами его имени, невольно воздействующими на людское сознание (курсив мой. – Е.Ф.). Нет, эта слава рождена самим существом (курсив Л.А. Баренбойма. – Е.Ф.) его искусства…»217.
В этих словах, как и в приведенных ранее словах Шостаковича о Гилельсе, дается отрицательная аргументация. У Шостаковича не говорится о Гилельсе только «искусство такое-то» (благородно-простое, естественное), а говорится – в «искусстве нет того-то» (аффектации, позы, жеманства). У Баренбойма не говорится – «его слава была рождена теми-то хорошими вещами»; но пришла «не потому, что…». Такая аргументация выдает мысли пишущего, остающиеся за кадром: слишком страдал Шостакович (как и Гилельс) от того, что толпа невежественных критиков предпочитает позу и жеманство, отрицая подлинное; слишком часто видел Баренбойм, как навязывают и закрепляют частыми повторами, воздействуя на сознание, угодные кому-либо имена, не замечая того имени, в котором – само существо искусства. Добавим к этому подобное же высказывание самого Гилельса – об Игумнове: от Константина Николаевича, по словам Гилельса, шло не только «все настоящее и правдивое», но и «лишенное витиеватости и пустословия»218. Вот что имело успех у недалеких критиков – витиеватость и пустословие; вот что было неприемлемо для Гилельса.
Доказать с точным инструментом в руках, что ясное, немногословное, гармоничное искусство Гилельса гениально-просто – невозможно. Здесь гарантией соблюдения приоритетов является только совесть пишущих, а также сложившаяся традиция. Если бы такой традиции не было, скажем, в отношении творчества Моцарта – объявили бы примитивным и его.
В отношении Гилельса ряд критиков и просто рассуждающих о музыке, особенно после его смерти, совесть утратили совершенно. Они же, к сожалению, преимущественно формируют пока что и традицию восприятия его искусства.
Но, может быть, мы перестанем руководствоваться их вкусами и поверим другим? Рахманинову, который ловил выступления совсем еще молодого Гилельса по радио и оценил его как лучшего из русских пианистов? Прокофьеву, который восторгался его исполнением и поручил ему представить публике гениальнейшую из своих фортепианных сонат – Восьмую? Шостаковичу, тоже немногословному, но для Гилельса нашедшему восторженные слова? Сибелиусу и Тосканини? Горовицу и Артуру Рубинштейну? Шагалу и Дали, Качалову и Чаплину? Может быть, они что-то понимали в искусстве, его духовной сути?
И неужели непонятно: правда в отношении всего великого – человека, события, чего угодно, – все равно рано или поздно выйдет наружу. Мы ведь все недавно знакомились с историческими документами и свидетельствами, показывающими, чего только ни делали для уничтожения возможности когда-либо узнать правду: расстреливали всех, кто ее знал, потом расстреливали тех, кто расстреливал… И все равно все стало известно.
В нашем случае расстрелов пока не было, а были мелкие или немелкие блага для рептильных рецензентов и лишение благ тех, кто пытался сопротивляться; концерты, гастроли, звания, гонорары и «хорошая» пресса для тех, кто готов был «забыть», кто такой Гилельс, и все обратное – тем, кто это упорно помнил.
Но приходит другое поколение, которому подачки из этих рук уже не нужны. Имена делавших карьеру на «забывчивости» забудутся сами. А записи Гилельса останутся навсегда, они из тех рукописей, которые не горят.
ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания
1
Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. М., 1979. С. 99-100.
2
Баренбойм Л.А. Книга Г.Г. Нейгауза и принципы его школы // Советская музыка, 1959, № 5.
3
Гордон Г.Б. Импровизация на заданную тему // Волгоград – фортепиано – 2000: Сборник статей и материалов по истории и теории фортепианного искусства. Ред.-составитель М.В. Лидский. Волгоград, 2000. Данная статья опубликована также в сборнике «Фортепиано: вчера, сегодня, завтра». Екатеринбург, 2006.
4
Указ. сборник. С. 181.
5
Никонович И.В. Воспоминания о Софроницком (Дополнение: И.В. Никонович отвечает на вопросы М.В. Лидского) // Волгоград – фортепиано – 2000. С. 137.
6
Гордон Г.Б. Импровизация на заданную тему. Указ. сборник. С. 172 – 217.
7
Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Издание третье. М.: Музыка, 1967. С. 192.
8
Там же. С. 204.
9
Когда эта книга готовилась к выходу в печать, издательство «Классика-ХХ1» опубликовало книгу Г.Б. Гордона «Эмиль Гилельс /за гранью мифа/».
10
Кроме книги «Об искусстве фортепианной игры», также статьи Г.Г. Нейгауза в книге: Генрих Нейгауз. Размышления. Воспоминания. Дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. М.: Советский композитор, 1983.
11
Цит. по: Нейгауз Г.Г. Святослав Рихтер (Творческий портрет) // Генрих Нейгауз. Размышления. Воспоминания. Дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. С. 240. Данная статья была опубликована ранее в газетах «Культура и жизнь», 1960, № 9; «Советская культура», 1960, 11 июня и журнале «Советский Союз», 1961, № 11.
12
Флиер Я.В. Щедрость художника // Советская музыка, 1976, № 10. Данная статья опубликована также в сборнике «Яков Флиер: Статьи, воспоминания, интервью». М.: Советский композитор, 1983.
13
Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. М.: Советский композитор, 1990. С. 69.
14
Цит. по: Гордон Г.Б. Импровизация на заданную тему. Указ. сборник. С. 203-204.
15
Таково название рецензии В. Городинского (Сов. искусство, 1934, 17 февраля).
16
Хентова С.М. Эмиль Гилельс. М., 1959 (1-е изд.) и 1967 (2-е изд.).
17
Великий и недооцененный: интервью Надежды Багдасарян с В.В. Горностаевой. Время новостей, 19 октября 2006 г.
18
Гилельс Э.Г. О Метнере // Советская музыка, 1953, № 12.
19
Ингер А. Пианистка Мария Гринберг // «Знамя», 1999, № 5.
20
Цит. по: Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. М., 1990. С. 49.
21
Там же. С. 48.
22
Фихтенгольц Л.И. Из воспоминаний об Э.Г. Гилельсе // Волгоград – фортепиано – 2004: Сборник статей и материалов по истории и теории фортепианного искусства. Редактор-составитель М.В. Лидский. Петрозаводск, 2005. С. 21.
23
Лев Оборин – первая премия, Григорий Гинзбург – четвертая премия, Дмитрий Шостакович – диплом. Советские участники были удостоены премий и дипломов также на Втором шопеновском конкурсе в 1932 г.: это были А. Луфер, Л. Сагалов, Т. Гутман, Э. Гроссман, А. Дьяков, А. Иохелес, В. Разумовская и П. Серебряков.
24
Гаккель Л.Е. Пианисты // Русская музыка и ХХ век / Под ред. М.Г. Арановского. М.: Гос. институт искусствознания, 1997. С. 703.
25
Цит. по: Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. С. 59.
26
Гаккель Л.Е. Указ. соч. С. 704.
27
Борис Гольдштейн. Мой друг Эмиль Гилельс //Волгоград – фортепиано – 2004. С. 19.
28
По воспоминаниям ученицы Софроницкого Н.А. Новиковой, Владимир Владимирович в конце 1940-х гг. в ответ на приглашения ехать играть к Сталину отказывался, ссылаясь на нездоровье, а в узком кругу говорил: «Я не холуй и не поеду, чтобы играть одну прэлюдию». (См.: Федорович Е.Н. Ученица Софроницкого // Поэт фортепиано: к 100-летию со дня рождения В.В. Софроницкого. М.: Мемориальный музей имени А.Н. Скрябина, 2003. С. 68).
29
См.: Хентова С.М. Эмиль Гилельс. М., 1967. С. 246. Имеется в виду цитата из статьи Клода Роя в «Юманите-деманш» от 21.03.54: «На сцену вышел крепкий молодой человек. Он уселся у рояля и глубоко вздохнул. Его лицо обрело выражение странной и дикой красоты. Только гром аплодисментов пробуждал его от сосредоточенности».
30
М.Г. Нейгауз. История ареста Г.Г. Нейгауза (воспоминания дочери). М.: Ньюдиамед, 2000. С. 5.
31
Горностаева В.В. Мастер Генрих // Генрих Нейгауз: Воспоминания о Г.Г. Нейгаузе. С. 475. Впервые эта статья была опубликована к 100-летию со дня рождения Г.Г. Нейгауза в апреле 1988 г. в газете «Советская культура».
32
Великий и недооцененный: интервью Надежды Багдасарян с В.В. Горностаевой.
33
Монсенжон Б. Рихтер. Дневники. Диалоги. М.: Издательский дом «Классика-ХХ1», 2005. С. 43.
В принадлежности самому Рихтеру высказываний, которые излагаются в этой книге от его имени, существуют сомнения, вызванные как особым ее жанром – интервью у Рихтера брались не для книги, а для фильма, и уже после смерти Рихтера были изданы как книга, – так и двойным переводом. Об этом см.: Лидский М.В. По прочтении книги Бруно Монсенжона о Рихтере (вроде рецензии) // Волгоград – фортепиано – 2004. С. 221.
34
Генрих Нейгауз: Воспоминания о Г.Г. Нейгаузе. Указ. издание. С. 148-149.
35
Цит. по: Гордон Г.Б. «Эмиль Гилельс /за гранью мифа/». С. 151.
36
Цит. по: там же. С. 154.
37
М.Г. Нейгауз. Указ. соч. С. 21. А.М. Луфер в то время был директором и Свердловской, и Киевской консерватории, которая была в полном составе эвакуирована в Свердловск и работала в одном здании со Свердловской.
38
В.М. Андрианов в описываемый период был первым секретарем Свердловского обкома и горкома КПСС. О его значительной роли в том, что Г.Г. Нейгауз из ссыльного был превращен в профессора консерватории, известно от уральского музыковеда Л.К. Шабалиной, ссылающейся на рассказ композитора и пианиста Ю.А. Муравлева. Кроме того, см. интервью И.З. Зетеля журналу «Новое время», цит. по: Гордон Г.Б. «Эмиль Гилельс /за гранью мифа/». С. 154-155.
39
М.Г. Нейгауз. Указ. соч. С. 21-22.
40
Там же. С. 9-15.
41
Там же. С. 10-19.
42
Гордон Г.Б. Проходит и остается // Волгоград – фортепиано – 2000. С. 170. Данная статья опубликована также в сборнике «Фортепиано: вчера, сегодня, завтра». Екатеринбург, 2006.
43
Гилельс и вечная гармония: беседа Михаила Жирмунского с Валерием Афанасьевым // Волгоград – фортепиано – 2004. С. 14.
44
Хентова С.М. Эмиль Гилельс знакомый и незнакомый. Музыкальная жизнь, 1992 год, № 13.
45
Там же.
46
Интервью Т.А. Алиханова газете «Московский комсомолец». 13 июля 2007 г.
47
Воскобойников В. О самом любимом и дорогом. О самых любимых и дорогих (Воспоминания о Генрихе Густавовиче Нейгаузе) // Волгоград – фортепиано – 2004. С. 120.
48
Там же. С. 121.
49
Хентова С.М. Эмиль Гилельс знакомый и незнакомый. Указ. издание.
50
www.emil-gilels.com.
51
Так Э.Г. Гилельс называл свою жену Фаризет, и это имя было принято в кругу их общения.
52
Воскобойников В. Указ. соч. С. 120.
53
www.emil-gilels.com.
54
Церетели А.С. «Должно быть больше тумана…» // Волгоград – фортепиано – 2004. Указ. сборник. С. 213.
55
Монсенжон Б. Рихтер. Дневники. Диалоги. М.: Издательский дом «Классика-ХХ1», 2005. С. 45-46.
56
Цит. по: Гордон Г.Б. Импровизация на заданную тему». Указ. сборник. С. 206-208.
57
Ингер А. Указ. соч.
58
См.: Хентова С.М. Эмиль Гилельс. М., 1967. С. 133.
59
Там же. С. 13-14.
60
Гилельс и вечная гармония: беседа Михаила Жирмунского с Валерием Афанасьевым // Волгоград – фортепиано – 2004. С. 14-15
61
«Когда Гилельс играл у меня «Испанскую рапсодию» Листа, то мне всегда приходила в голову мысль, что октавы я не могу сыграть так быстро, блестяще и так громко, как он…» (Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967. С. 204). Здесь, как и в прочих высказываниях о Гилельсе, Нейгауз, хваля Гилельса за блестящую технику, одновременно подчеркивает его мнимую виртуозную односторонность: «быстро, блестяще и громко» не является комплиментом с точки зрения передачи содержания музыки.
62
Хентова С.М. Эмиль Гилельс. М., 1967. С. 34-38.
63
Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. С. 58-59.
64
Нейгауз Г.Г. Искусство Эмиля Гилельса // Генрих Нейгауз. Размышления. Воспоминания. Дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. М.: Советский композитор, 1983. С. 266. Данная статья впервые опубликована в газете «Литература и жизнь» от 6 апреля 1962 г.
65
Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. С. 15.
66
Хентова С.М. Эмиль Гилельс. Указ. издание. С. 147.
67
Баренбойм Л.А. Эмиль Гилельс. С. 45.
68
Там же. С. 73.
69
Коган Г.М. Избранные статьи. Вып. 3. М., 1985. С. 87.
70
Гордон Г.Б. Гилельс и критика. Музыкальная академия, 1994, № 4. Данная статья опубликована также в сборнике «Фортепиано: вчера, сегодня, завтра». Екатеринбург, 2006.
71
Горностаева В.В. Памяти Г.К. Богино // Два часа после концерта. Дубна, 1995. С. 113.
72
Мильштейн Я.И. Концерт Святослава Рихтера // Вопросы теории и истории исполнительства. М.: Советский композитор, 1983. С. 114.



