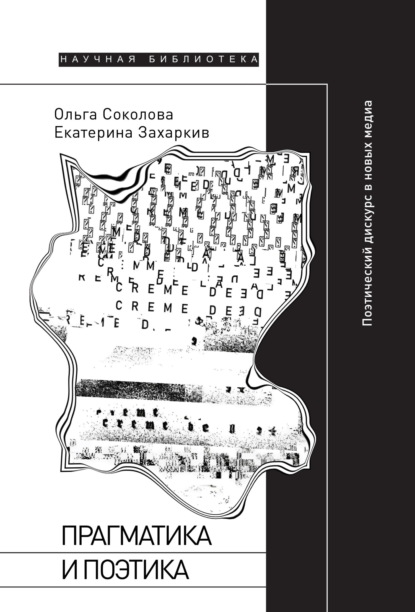
Полная версия:
Прагматика и поэтика. Поэтический дискурс в новых медиа
§ 3. Адресация и субъективация
Проблема адресации, активно исследуемая в прагматике и коммуникативной лингвистике [Якобсон 1975; Арутюнова 1981; Ковтунова 2006 и др.], становится все более актуальной при анализе художественного и поэтического дискурсов [Северская 2010; Фатеева 2003; Зубова 2010; Соколова 2014]. Подход к поэтическому произведению как к особому типу коммуникации мотивировал рассмотрение «фактора адресата» [Арутюнова 1981] в художественном дискурсе.
М. М. Бахтин ставил диалогические отношения в центр человеческого существования (проявленного в речевой практике): «Быть – значит общаться диалогически» [Бахтин 1979: 294]. Таким образом, высказывание подразумевает ответ в самой своей конструкции. Одним из наиболее примечательных примеров проявления подобного свойства дискурса в общем смысле является адресация поэтического высказывания, направленная на неопределенное множество адресатов. Иными словами, поэтическое сообщение всегда адресовано «кому-то еще». В статье, посвященной адресации в художественной коммуникации, Г. В. Степанов пишет:
Язык запрограммирован на диалог, и художественная коммуникация, может быть, как никакая другая, в столь яркой форме не вскрывает эту диалогическую функцию языка [Степанов 1984].
В обсуждаемой выше работе Якобсон указывает на неоднозначность поэтической референции, чему соответствует «расщепленность адресанта и адресата». Тезис о расщепленности адресанта раскрывает С. Т. Золян, который, обращаясь к проблеме «я» поэтического текста, отмечает его субъектное раздвоение: «я» в тексте («семантика „я“ сводится к системе внутриязыковых противопоставлений представленных в тексте единиц») и «я» текста («семантика „я“ возникает в момент актуализации текста и в этом смысле является внешней по отношению к тексту»). При этом «расщепленность адресата»6 также требует внимательного рассмотрения [Золян 2014: 199].
Эксплицитно адресация реализуется в речевых актах, с помощью tu-центрических7 языковых средств, указывающих на субъектов (как с конкретным, так и с обобщенно-личным значением), таких как глаголы в форме повелительного наклонения второго лица единственного и множественного числа и местоимения второго лица единственного или множественного числа. Имплицитно адресация осуществляется посредством целевого шифрования текста, в результате чего читатель приглашается к коммуникации без прямого к нему обращения (согласно концепции «лексикода» Эко [Эко 2006]). Таким шифрованием в поэтическом тексте может выступать специальная лексика, понятная определенной группе людей.
Отметим также, что поэтическое высказывание может быть направлено на любого потенциального субъекта, приобретающего уникальный опыт интерпретации поэтического текста. Такого адресата может отличать спонтанный характер (например, в современных условиях реализации поэтического дискурса в социальных сетях).
В ПД присущая речи диалогичность тесно связана с автоадресацией в том смысле, что поэтическое высказывание помещено между двумя режимами речи: внешней и внутренней. Такое пограничное положение предполагает взаимообусловленность этих коммуникативных векторов, когда внутренняя речь апеллирует к самому субъекту высказывания, а внешне-разговорный режим – к абстрактному «Другому». Н. А. Фатеева отмечает, что отношения, которые устанавливаются функцией автокоммуникации, «суть адресатные отношения к миру и языку одновременно», организующие диалогическое взаимодействие субъекта с объектами и адресатами его мира в языковой функции [Фатеева 2003: 47]8.
Проблема формирования субъекта, или процесса субъективации, значимая для предшествующих периодов литературы и различных литературных направлений (ср. с типологией лирических субъектов [Корман 1982; Бройтман 2008]), выходит на новый этап теоретико-методологического осмысления в отношении современной поэзии.
Сама природа взаимоотношений субъекта и объекта познания восходит к учениям античных философов о самопознании и самоидентификации, об универсальном и индивидуальном, получая развитие в работах авторов немецкой классической философии И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и достигает пика в теории Г. В. Ф. Гегеля. Проблема субъекта как человеческого существования и переживания опыта бытия в мире лежит в основе экзистенциальной философии: С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.‑П. Сартра и др.
Проблема поэтического субъекта становится одной из ключевых в ряде филологических и философских работ XX века: «Нулевая степень письма» (1953) Р. Барта, «О поэзии и обществе» (1958) Ф. Адорно и др. Изучая изменения в поэзии от Бодлера до середины двадцатого столетия, Г. Фридрих разграничивает понятия поэтического и лирического субъекта, опираясь на фразу «Я – это другой» А. Рембо как маркер несовпадения реального биографического «я» и «я» как функции поэтического высказывания [Friedrich 1956]. На новых функциях субъекта фокусируется социальный философ Ч. Тейлор, который вводит понятие «экспрессивистский стиль», или «экспрессивизм», характеризуя новые формы индивидуальности в романтизме [Taylor 1989]. В то же время, что и работа Маццони, выходят книги итальянского филолога Э. Тесты [Testa 1999]. В своей последней книге Теста проблематизирует категорию субъективности в современной поэзии, «подрывающей репрезентативную самодостаточность субъекта» [Testa 1999: XIII]. Субъективность как основа тектонических сдвигов в литературе, которая представляет собой не изолированное понятие, но категорию, напрямую связанную с социально-исторической динамикой и охватывающую тысячелетний период от античности до второй половины XX века, рассматривается в работе Г. Маццони [Маццони 2024]. Маццони охватывает круг вопросов, который реактуализируется в современном контексте: проблема идентичности и ее кризис; переломные моменты формирования субъективности, включающие ренессансный «переворот» и романтическую «революцию»; категории публичности и персональности, субъектной отстраненности и индивидуализма и др.
В лингвистике основные принципы субъективности в аспекте антропоцентрического подхода были заложены в работах В. фон Гумбольдта, который рассматривал языковые процессы в связи с развитием общества [Гумбольдт 2000: 77]. Дальнейшее развитие научной мысли было связано с интересом к изучению эволюции человеческого мышления («Мысль и язык» А. А. Потебни), «человека говорящего» (младограмматики), «индивидуального сознания» (И. А. Бодуэн де Куртенэ), реализовавшись впоследствии в гипотезе лингвистической относительности Ф. Боаса, Э. Сепира и Б. Уорфа.
Субъективность как неотъемлемая черта языка художественной литературы исследовалась в русле проблемы «языковой личности» в работах формалистов (В. В. Виноградова, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, В. М. Жирмунского и др.) и далее – в русле концепции «идиостиля» В. П. Григорьева.
Значимой для формирования нового антропоцентрического подхода стала теория «субъективности в языке» Э. Бенвениста [Бенвенист 1974: 293–294]. Развивая идею Э. Бенвениста об автореферентности языкового знака, Ю. С. Степанов выявляет более общее свойство языка, основанное на субъективности и позволяющее определить такую концепцию как «антропоцентрический принцип» [Степанов 1974: 14]9.
Далее мы обратимся подробнее к субъективности как лингвистической категории и ее функционированию в поэтическом языке.
§ 4. Поэтический дейксис
Поэтический дискурс характеризуется наличием особо функционирующего дейксиса – моделируемой в произведении системы координат. Дейктические категории в речи привязаны к исходному дейктическому центру, нулевой точке или origo: говорящий («я»), место («здесь») и время произнесения («сейчас») [Бюлер 1993]. Особо значимой для изучения дейксиса является теория шифтеров Р. О. Якобсона, где в качестве центральной грамматической категории вводится понятие «шифтера» как языкового знака, обозначающего прагматическую позицию участников коммуникативного акта [Якобсон 1972]10. А. А. Кибрик определяет дейксис как
использование языковых выражений и других знаков, которые могут быть проинтерпретированы лишь при помощи обращения к физическим координатам коммуникативного акта – его участникам, его месту и времени [Кибрик 2014].
В ПД читатель также наделяется особой оптикой, перемещаясь по мысленному пространству, конструируемому вокруг origo и отличному от реальности. Описывая это явление, К. Бюлер вводит термин Deixis ad phantasma [Бюлер 1993], а П. Стоквелл с позиций когнитивной поэтики разводит понятия текстового и когнитивного дейксиса, где первый отвечает за связную репрезентацию системы знания в тексте, а второй – за фреймы, форматирующие эту систему на содержательном уровне [Stockwell 2002]. Д. Н. Ахапкин отмечает, что дейксис поэтического дискурса состоит из ряда дейктических полей, включающих в себя набор языковых единиц и выражений, которые нацелены непосредственно на актуализацию читательского внимания путем включения определенных когнитивных механизмов и процессов [Ахапкин 2012]. Подробный обзор теоретических подходов к изучению дейксиса в художественном дискурсе представлен в работе В. В. Фещенко, где подчеркивается значимость этой категории как «доминанты субъективности в поэтическом семиозисе» [Фещенко 2022б: 201]. Современные исследования обращаются к изучению дейксиса в литературе раннего модернизма [Dubrow 2015] и рассматривают динамику поэтического дейксиса на протяжении ХХ – начала XXI веков [Feshchenko and Sokolova 2023].
Важным для анализа поэтического дейксиса является понятие дейктического сдвига в значении резкой смены перспектив указания, что сигнализирует о переключении фокуса восприятия, и такие стратегии, как отстранение, дистанцирование, zooming in, zooming out и т. д. И. И. Ковтунова отмечает особое дейктическое «сгущение», присущее ПД, что сопровождается частотностью дейктических сдвигов [Ковтунова 1986б]. Так, например, многочисленные сдвиги в области персонального дейксиса маркируют физические координаты положения субъекта и указывают на актуальную коммуникативную ситуацию.
Среди ключевых характеристик поэтического дейксиса можно выделить коммуникативные («двойная» поэтическая коммуникация), референциальные (автореферентность сообщения и конструирование координат поэтического мира), структурные (нелинейная структура поэтического текста, формирующая нелинейные связи между языковыми единицами) и языковые (грамматические и лексические средства выражения) свойства.
§ 5. Метаязыковая рефлексия
Понятие метаязыковой рефлексии, или метаязыковой деятельности, реферирует к теории Р. О. Якобсона о функциях языка, в рамках которой он среди прочих обозначил метаязыковую функцию как особого рода «высказывания, ориентированные на код» [Якобсон 1987: 203].
Значимым трудом, заложившим основы широкого понимания такого синонимичного метаязыковой рефлексии понятия, как метатекст, является работа А. Вежбицкой «Метатекст в тексте» [Вежбицкая 1978]. Согласно ее пониманию, метатекст характеризуется диалогическим или комментирующим отношением к основному тексту, иногда выступая в качестве отдельной системы текста. Понятия метатекста и метаязыковой рефлексии разводятся в работе Н. П. Перфильевой, согласно которой предметом метаязыковой рефлексии может выступать как язык в широком понимании (в синхроническом срезе), так и язык определенной языковой личности, тогда как
метатекст – это результат метаязыковой деятельности Говорящего применительно к данному конкретному тексту и его компонентам (частям, высказываниям, словам, фразеологизмам) [Перфильева 2006: 36].
Поэтическая метаязыковая рефлексия получила название «лингвистики поэта» (Н. А. Фатеева) или «поэтической филологии» (Л. В. Зубова, А. Н. Черняков, А. Т. Хроленко). Это явление довольно подробно изучено в лингвистике как на материале разговорного языка, так и на материале художественного дискурса [Блинова 1989; Вепрева 2005; Черняков 2007; Фатеева 2017; Шумарина 2011].
Под метаязыковой рефлексией мы понимаем осознанный выбор субъектом речи языковых средств и способа их организации, в результате чего в фокус помещается план выражения отдельного стихотворения и в более широком смысле – язык и разные типы дискурса. Этот аспект необходимо учитывать при анализе прагматических маркеров, поскольку они участвуют в метапоэтической рефлексии конвенциональной коммуникации, деавтоматизации восприятия и дестереотипизации языковых клише.
В новейшей поэзии метаязыковая рефлексия может выражаться как с помощью нарушения норм употребления и графического выделения прагматических маркеров, так и посредством введения терминов прагматики, например в названии поэмы Р. Б. ДюПлесси «Draft 33: Deixis» или во фрагменте из текста А. Драгомощенко:
Основание – референция, репрезентация, прозрачность, описательность, репродуцирование, позитивизм.
Слова – окна, заместители, имена вещей, фигуры в черном в театре Но.
Коммуникация – обмен готовыми товарно-смысловыми пакетами.
§ 6. Определение поэтического дискурса
На основании существующих концепций дискурсивной природы поэзии можно сформулировать следующее определение поэтического дискурса как совокупности поэтических высказываний (текстов), которые характеризуются особой системой отношений между элементами. Эти отношения обусловлены нелинейной композиционной структурой, связанной с намеренным выбором автором слов и их расположением, что влияет на смыслообразование текста и формирует аномальные парадигматические, синтагматические и семантические отношения. Для поэтического дискурса характерны такие специфические черты, как автореференция, автокоммуникация и автоадресация.
Раскрывая основные особенности поэтического дискурса, уточним, что поэтическая референция отлична от референции в других типах дискурса, поскольку она отсылает не к внешней действительности, а к поэтическому миру и вместе с тем – к плану выражения поэтического текста (свойство автореферентности). Поэтический дейксис характеризуется «поэтическим режимом интерпретации высказывания», выражаемым особой формой поэтического «я» (в рамках автокоммуникации и автоадресации), регулярно соотносящегося с грамматическими формами второго и третьего лиц (в том числе в режиме дейктических сдвигов, стратегии диалогизации и дистанцировании говорящего от собственного «я»). Отмеченные характеристики влияют на реализацию субъективации и адресации в поэтическом тексте как актуальном поэтическом высказывании.
Глава 2
Новые технологии и прагматические техники в современной поэзии
§ 1. Модификация коммуникативной модели и интернет-коммуникация
На протяжении второй половины XX века мы наблюдаем изменение модели коммуникации, которое активизировалось в эпоху пандемии и которое можно определить, во-первых, как формальное, технологическое, подготовленное развитием цифровых медиа, а во-вторых, как качественное, связанное с трансформацией основных параметров коммуникативного акта.
Обращаясь к модели коммуникации Р. О. Якобсона [1975], отметим, что отношения, действующие между факторами коммуникации, которые были выделены в его модели, изменились с распространением цифровых технологий. Электронные медиа повлияли на трансформацию функционально-коммуникативной модели, что проявилось в доминировании контакта и кода в онлайн-коммуникации.
Согласно Р. О. Якобсону, контакт соотносится с каналом физического общения или психологической связи между адресантом и адресатом. По сравнению с инструментальной функцией, которую он выполнял раньше, в эпоху цифровых технологий канал передачи информации стал одним из доминирующих параметров коммуникации, влияющих на сообщение как таковое. Если «классические» («аналоговые») каналы передавали информацию с помощью голоса, жеста, листа бумаги и т. д., то «цифровые» каналы оформились в виде новых технических и программных интерфейсов, таких как экраны мониторов, планшетов и смартфонов и т. д. В случае новых «цифровых» медиаканалов определяющее значение обретает «графическая переводимость» (graphic translatability) (термин Д. Кристала [Crystal 2001: 47]), которая влияет как на содержание высказывания, так и на его восприятие адресатом.
Еще одним значимым фактором является код: если в процессе естественного общения метаязык (а именно язык, говорящий о самом вербальном коде) играет роль кода, то в интернет-общении «компьютерный язык», или «язык программирования», служит для формирования значения высказывания с помощью единообразия кода. Организующий принцип языка программирования в этом отношении аналогичен естественному языку: подобно тому, как метаязык передает значение слова с помощью его описания, метаданные языка программирования служат для описания исходных данных. Как утверждает Л. Манович, «компьютерный интерфейс стал выступать в роли кода культурных медиа-сообщений, распространяемых повсеместно» [Манович 2018: 100]. Маркерами метаязыкового функционирования языка программирования в поэтических текстах становятся, в частности, единицы так называемого параязыка интернета: графические и символьные элементы программного кода, включенные или даже организующие поэтическое высказывание (например, «кодовая поэзия» или тексты Н. Скандиаки, Г. Улунова, А. Месропяна и др.).
Доминирование канала и кода коммуникации влияет на сдвиг других коммуникативных параметров, таких как адресант, адресат, контекст и т. д., что приводит к изменению корреляций между базовыми категориями: частным и публичным, индивидуальным и социальным общением. Цифровые медиа изменили как сферу языка и коммуникации, так и спектр способов восприятия информации. Этот коммуникативный сдвиг повлек за собой необходимость поиска новых стратегий поэтической субъективации и адресации в пространстве цифровых медиа.
Важным для медиатеории и полимодальных исследований является термин медиа-«просьюмер» (media «prosumer»), введенный футурологом Э. Тоффлером [Toffler 1981: 11] для обозначения реципиента, который является одновременно и потребителем, и производителем медиаконтента. Опираясь на него, современные исследователи [Bateman, Wildfeuer, Hiippala 2017] утверждают, что вовлечение «потребителей знака» в новый медиаинтерфейс приводит к изменению ролей участников коммуникации и стиранию границ между интерпретаторами (interpreters) и исполнителями (performers).
Понятие «медиагибрида» как поэтического текста, функционирующего в условиях новых медиа, вводит А. Е. Масалов, рассматривая современную поэзию с точки зрения как субъекта, «распадающегося» в пространстве цифрового интерфейса, так и реципиента, интерпретирующего поэтические тексты через «особую консоль восприятия» [Масалов 2023: 258].
Создание и исполнение полимодальных художественных текстов ориентированы на активное вовлечение адресата и наделение его полномочиями «просьюмера», способного к равноправному с автором сотворчеству11.
Классическая коммуникативная дихотомия «устное – письменное» расширилась, дополнившись новой формой интернет-коммуникации, распространенной в цифровых интерфейсах: в социальных сетях, блогах, мессенджерах и приложениях. Одними из первых эту проблему подняли такие исследователи, как Вальтер Онг, который ввел понятие «вторичной устности» (secondary orality [Ong 1982]) и Д. Кристал, использующий термин «сетевой язык» (Netspeak [Crystal 2001: 17–18]). На современном этапе продолжаются поиски подходящего термина для определения нового типа коммуникации, который акцентирует различные ее характеристики, включая канал передачи информации («электронный» модус дискурса [Кибрик 2009], «виртуальная» коммуникация [Бергельсон 2002], «онлайн-коммуникация» [Para 2016]), или подчеркивающего двойственную природу нового типа коммуникации в интернете («устно-письменный», или «промежуточный», тип коммуникации [Кронгауз 2013]).
Технологическая ориентация медиаисследований в целом и медиалингвистики в частности, основанных на работе с массивом больших данных (big data), на современном этапе оказывается направлена не только на модели использования языка, ориентированные на медиа, но и на модели, ориентированные на пользователя [Androutsopoulos 2006: 421]. При этом само понятие «пользователь информационных систем» кардинально отличается от «субъекта» в русле антропоцентрического принципа. Отход от принципа изучения «человека в языке» [Бенвенист 1974]12, с одной стороны, отличает антропоцентризм от «датацентризма» (Data-centric approach), а с другой – открывает перспективы для взаимодействия «больших» и «малых» данных, субъектно- и технологически-ориентированного подходов. В этом плане особый интерес представляют исследования поэтических стратегий субъективации в цифровых медиа, формирование которых основано на выстраивании локальных поэтических практик в глобальных пространствах.
§ 2. Взаимодействие обыденного языка и поэтического дискурса
Выстраиванию новых стратегий субъективации способствует и характерная для поэзии второй половины XX века установка на взаимодействие поэтического и обыденного языка, развившаяся под влиянием теории Л. Витгенштейна и последовавшего за ним перформативного поворота, который оказал влияние не только на лингвистику, но и на литературу13. С точки зрения поэтической коммуникации, в современной поэзии модель автокоммуникации Ю. М. Лотмана расширяется за счет разных способов прямого и непрямого взаимодействия между адресантом и адресатом. В основе расширенного понимания поэтической коммуникации лежит концепция поэтической прагмасемантики С. Т. Золяна, который утверждает, что
поэзия выступает как языковой (а в ряде случаев – и метаязыковой) механизм, позволяющий перечислить все допустимые альтернативы мира и тем самым описать мир [Золян 2014: 113].
Эта тенденция получает различные способы реализации благодаря новым технологиям и выражается в том числе с помощью расширения сферы употребления разговорной лексики и синтаксиса и повышения частотности использования прагматических маркеров. Будучи показателями разговорной речи, они активно интегрируются в поэтический язык, подвергаясь трансформации, метаязыковому осмыслению и становясь частью стратегий поэтической субъективации и адресации. Поскольку поэтическая прагматика выходит в фокус и получает новые формы реализации в поэзии под влиянием новых медиа, можно предложить термин «прагматические техники», позволяющий акцентировать сдвиг в сторону нарушения речевых конвенций в результате взаимодействия обыденного языка и поэтического дискурса.
§ 3. Релевантные для исследования медиапонятия
Анализ современной поэзии в эпоху новых медиа предполагает вовлечение инструментария смежных дисциплин, относящихся к медиатеории. Среди базовых медиапонятий можно выделить «интерфейс», «мультимодальность», «мультимедиальность» и «транскодирование». Характерный для современных поэтов тип письма можно сопоставить с особым форматом технологического, а в данном случае прагма-поэтического, «транскодирования» как перевода из одного формата в другой, под которым понимается «алгоритм», представленный в виде «идеи», перед тем как «материализоваться в технических средствах» [Манович 2018: 81].
Можно сравнить заложенный в транскодировании принцип процедур, или последовательности операций, с понятием «процедурного значения» (procedural meaning) прагматических единиц [Blakemore 2002: 4]. Согласно когнитивно-прагматическому подходу Д. Блейкмор, прагматическое значение как получение «результатов прагматических инференций, связанных с восстановлением имплицитного содержания» противопоставляется семантическому значению как прямому результату лингвистического декодирования [Там же]. Выразителями процедурного значения являются прагматические маркеры: дейктики, показатели модальности, дискурсивные единицы и др.
Можно представить компьютерный код как своеобразный фильтр, проходя сквозь который те или иные медиа (бумажный текст, музыкальная композиция, песня, рисунок), подвергаются транскодированию, то есть переводятся в другой формат (из аналогового в цифровой или наоборот). Такая перекодировка формата распространяется и на участников коммуникации (пользователей), способствуя повышенной интерактивности в условиях возможности взаимодействия с интерфейсом, что заложено в самой динамичной природе этого пространства, допускающего навигацию, добавление и корректировку информации. Транскодирование в поэзии часто сопровождается изменением формы, содержания и коммуникативных параметров сообщения.
Кратко очерчивая предысторию вопроса, отметим, что о проблеме «межсемиотического перевода» информации из одной системы в другую писал Р. Якобсон [Якобсон 1978], три способа взаимной трансформации кодов в разных художественных формах выделял О. Ханзен-Лёве: перенос мотивов между разными формами, перевод конструктивных принципов и проекция концептуальных моделей [Ханзен-Лёве 2016]. Круг этих вопросов включает проблему межъязыкового перевода экспериментальных текстов со сложным «графическим дизайном» (spatial design [Perloff 2010]), в которых вербальное и визуальное являются составными общей семиотической конфигурации. Понятие «графического перевода», который «сохраняет визуальную и метаграфическую формы исходного текста, перестраивая его лексические элементы в переводе», и «пересоздает» экспериментальный текст (transcreate), предлагает В. В. Фещенко [Feshchenko 2019: 112].



