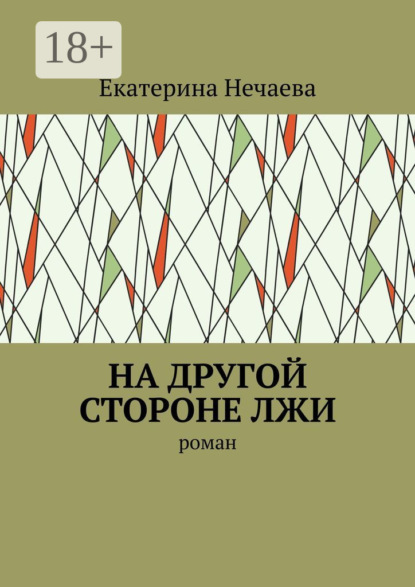
Полная версия:
На другой стороне лжи. Роман
***
Квартира-студия Лиды, спроектированная по личному чертежу, напоминала её шубку: скромная кухня-капюшон, втиснутая между туалетной комнатой и стеной балкона, выполненная в тёплых молочных тонах удлинённая комната и свободные рукава утеплённого балкона, уходящего от двери вправо и влево примерно на одинаковые расстояния. Высокие потолки, вызывая иллюзию пространства, зрительно делали квартиру больше. Ничего лишнего здесь не было. Не было даже привычного многим коридора – огромный шкаф съел его во время ремонта, и, перешагивая порог, Лида каждый раз оказывалась «сразу вся» дома и чувствовала, как время обретает пульс и воспринимается по-иному, словно её дом – это другое измерение, где все течения, законы и образы сформировались вне всего, что существовало за его пределами. Женщина, как только переехала сюда, стала ловить себя на мысли, что не воспринимает время, которое провела вне этих стен. Иногда ей казалось, что там, за пределами её квартиры, времени не было вообще. Дом стал её крепостью, опорой, обителью, спасением от безвременья.
– Здравствуй, милый дом, – певучие звуки мягкими горошками рассыпались по светлому паркетному полу. – Как ты, родной?
Лёгкий взмах руки, поглаживание чуть шероховатой стены, от которой начинал свой путь стеллаж с книгами. Взгляд в окно. Оглушающая тишина. Хорошо. Хорошо просто так, без причин и следствий. Хорошо там, где ты есть, потому что в другом месте в этот момент тебя нет и вся твоя вселенная сосредоточена здесь. Сейчас главное – ни о чём не думать. Максимально расслабиться и отдохнуть от плодотворного общения. Нет, она не устала, невозможно устать от того, что искренне любишь, что отвечает запросам людей и приносит удовлетворение и ей лично, но по опыту Лида знала, что необходимо отдохнуть, чтобы однажды не перегореть. Ниочёмный сериал, не требующий вникания, или любовный роман, легкомысленный, как итальянское вино, – обычные вещи после лекций. Иногда эти вещи замечательно совмещались.
Лида, бросив довольный взгляд на существующий в её доме порядок, растянулась на таком же светлом, как всё остальное, диване, спинка которого была обращена к шкафу и кухне и создавала видимость коридора, ткнула в кнопку пульта от телевизора и взяла со стеллажа, возвышающегося справа, книжицу. Ей нравилась её жизнь, бесконфликтная и свободная. И нравился её возраст. Ещё немного, и сорок пять – прекрасная пора! Выглядеть можно в два раза моложе, а опыта и знаний хоть отбавляй. Хлебнув несчастий полной ложкой до тридцати, она ценила то, что было у неё сейчас, и мало кого пускала в свою жизнь. Даже вещи, безмолвные для многих, очень избранно допускались в совместное с ней существование. Минимализм во всём поддерживал и давал ощущение свободы.
Это касалось и фотографий, и картин, коими не изобиловали стены. Над рабочим столом, комфортно устроившимся в углу квартирки, справа от входа на балкон, висела одна-единственная, чёрно-белая. С неё добрыми до боли глазами смотрела серьёзная девушка, как две капли воды похожая на Лиду.
***
Звонок раздался внезапно и вывел её, прикорнувшую перед телевизором с так и не открытой книгой, из полузабытья. Сумерки успели опутать стены, ватно распластались по паркету, сплели паутину на потолке. Не сразу сообразив, что телефон лежит в кармане шубы, Лида сначала привычно пошарила на передвижном журнальном столике, потом не спеша поднялась и прошлёпала к четырёхстворчатому зеркальному шкафу. Олицетворяя собой современность, он был завуалированным другим миром, поглотившим в себя гардероб, полки, шкафчики, ларцы, ларчики. В центре шкафа стояло старое кресло, купленное на аукционе, а в одном из ларцов хранился любимый бабушкин платок и нательный оловянный крестик, якобы приданный Лидии при крещении. По мнению Юлечки, давней славной подруги, в шкафу можно было жить, не отказывая себе в удобствах, если, конечно, прорубить петровское окно в соседнее, туалетное, помещение, отделявшее жадный шкаф от отвоевавшей себе мизерное местечко на этой планете кухоньки со встроенным мини-холодильником и полным отсутствием духовки.
Телефон продолжал настойчиво подавать признаки жизни. Справившись с просторными карманами шубы, Лида наконец-то ответила:
– Слушаю.
– Ты чё так долго к телефону не идёшь? Спишь, што ли? Завтра приедешь? Точно? – отец сыпал вопросами, не давая возможности ответить. Она помнила эту его манеру с детства: в первых вопросах была претензия, потом тон менялся, а в последнем вопросе, обычно коротком, появлялась плаксивость. Она не видела отца много лет, с тех пор, как он женился на особе, равной ей по возрасту, но потребовавшей, чтобы Лида называла её не иначе как мама. Новоиспечённая тридцатилетняя дочь, узнав, что явилась причиной несчастной отцовской жизни, брошенной на алтарь воспитания и содержания девчонки, из которой так ничего путного и не вышло, с трудом выдержала полтора дня их свадьбы. Пока молодые пиршествовали, Лида покинула квартиру, в которой прожила тридцать лет, шестнадцать из них – с мамой и папой, а после того, как мать спешно уехала за границу с брутальным красавцем, – только с отцом. Во времена совместного бытования с папенькой она несколько раз пыталась связать свою жизнь с какими-то типами, но каждый раз возвращалась домой. Впервые это случилось в семнадцать, через год после побега матери. Отец тогда изрядно пил. Но новый папик, к которому она сбежала, оказался один в один похож на него, с той лишь добавкой, что распускал руки, как доходил до кондиции, и блудная дочь вернулась к родному очагу, виновато перешагнув порог. Не заметивший её трёхнедельного отсутствия отец пробормотал что-то про пиво и выключился до утра.
– Точно? – снова ожил в руке телефон. В голосе Лида уловила новые, не знакомые ей, нотки.
– Здравствуй, папа, – она выдержала паузу, пытаясь понять, что скрывается за неизвестным тоном, и, как можно спокойнее, продолжила: – Да, я приеду. Мы же договорились.
– Договорились… – передразнил её отец. – Мало ли что договорились… А вдруг у тебя чё случилось?
Ясно представилась картина, как отец выкатывает глаза на «чё случилось» и затем плотно смыкает губы.
– Я бы позвонила и сказала, – выдержав небольшую паузу, ещё ровнее произнесла Лидия Ивановна-Львовна, как будто бы разговаривала с клиентом, – надеюсь, что и у тебя ничего не изменилось.
– Адрес-то помнишь? – снова дразнящая насмешка, и – озарение! Вот оно – новое! Язвительная насмешка, глумление. В детстве мальчишки во дворе, зная, как она не переносит скрип пенопласта, подкрадывались и резко начинали издавать самые мерзкие звуки на свете. Подначивал всех рослый заводила по прозвищу Гуща, нещадно мучивший мелкую живность: на глазах у компании он ломал или дробил кошкам, птицам, лягушкам лапы, выколупывал глаза, вставлял в задний проход палки и наслаждался страхом, застрявшим во взглядах окружавших его ребят. В логу, за сараями и гаражами, подальше от глаз взрослых, он обосновал концлагерь для своих дел и созывал всех смотреть. Лида тоже один раз потянулась за всей ребятнёй в лог, но стоять и смотреть не смогла. Огромная жаба, пойманная Гущей для расправы, смотрела на неё так, что Лида выхватила покалеченное существо и помчалась со всех ног куда глаза глядят.
Гуща терпеть не мог Лиду (независимость этой девчонки бесила) и постоянно искал возможность нагадить ей. Однажды он и его дружки окружили её и целой толпой играли жуткую пенопластово-какофоническую симфонию. Длилось это вечность, до тех пор, пока мир взрослых не материализовался в виде соседа по подъезду, дяди Вити. Он матерно гаркнул на ребят так, что весь их ненавистный оркестр с криком «Атас!» разлетелся в разные стороны. Лида же стояла, зажав уши ладошками и зажмурив от ужаса глаза. Дядя Витя нишатковалкой походкой приблизился к ней, выпалил приветственную фразу: «Солнце светит, мир поёт, и вам – здрасте!» – и протянул печенюшку. Лида отлепила побелевшие от напряжения пальчики от ушей, зыркнула зазеленевшими от гнева глазёнками на соседа и пулей унеслась домой. Впрочем, печенюшку успела схватить.
Звуки ещё долго преследовали её. Несколько ночей она, вздрагивая, просыпалась, озиралась по сторонам в поисках мальчишек, с тревогой разглядывала тени, вольно гуляющие по потолку и по стенам её маленькой комнаты, а однажды, в ночь, когда случилась страшная гроза, забралась в шкаф и зарылась в вещи, скинув с плечиков аккуратно висящие свои и мамины платья и отутюженные папины рубашки. Утром родители обнаружили её, свернувшуюся калачиком, мирно посапывающей в шкафу, съевшем почти половину детской комнаты. Через узкий проход от этого проглота стояла кровать, у окна – стол с тумбой и полками по обе стороны. На верхних полках покоились мягкие игрушки, а на нижних беспорядочно толпились книжки и книжицы, тетрадки с первыми выведенными словами и альбомы с рисунками. В тот год, 1 сентября, мама и папа торжественно отвели её в первый класс, и она оказалась за одной партой с второгодником Гущей. Так началось их знакомство, непродолжительное, но противное.
– Помню, папа, помню, – ни его тон, ни то, что он не поздоровался, не вызвали в ней злости или негодования – годы работы с людьми служили во благо. – До завтра. Буду, как договорились, к обеду.
– Ладно. Давай. Жду, – он нарубил слов и сбросил звонок на полуслове, и «жду» обратилось в долгое жужжание, поглотившее отчаянно барахтавшуюся в воздухе недосказанность и пенопластовую симфонию, написанную мальчишками их двора тридцать семь лет назад.
***
Первый день весны! Утро хлынуло в окна, стёрло, словно пыль с мебели, темноту, и бесстыже рухнуло на диван. Лида резко открыла глаза. Солнечный свет заливал квартиру на восьмом этаже, заливал дом, центр города, заливал Пермь, утопающую в парках и скверах, торжественно притихших в ожидании весеннего буйства.
Минус пять с утра могли обернуться при таком солнце в хороший плюс днём, но каждый живущий на западной стороне Урала знает, как промозглые ветры, возникающие внезапно, способны распылять солнечные лучи, развеивать их в бесконечности и вносить свои коррективы в плазменную работу светила.
Сегодня воскресенье. День, когда можно понежиться в постели, когда нет пробежки, фитнеса, когда вместо привычной овсянки на завтрак можно побаловать себя бутербродами или шоколадом. Бывали такие воскресенья, когда Лида валялась на диване целыми днями, смотрела фильмы, читала, спала. А вечером непременно шла гулять! Туда, где валится за реку солнце, цепляясь лучами-щупальцами за опоры моста, или снуют тучи, серо, понуро, ворчливо, или, поглядывая на себя в огромные окна новостроек, взбивают причёски чернично-клубничные облака. Туда, на Каму!
Упруго потянувшись, выгнувшись, как кошка, Лида окончательно проснулась и вспомнила о встрече с отцом. Вчерашний недолгий разговор, вызвавший детские воспоминания, показался вырванным эпизодом из давнишнего фильма, но язвительный тон, скребнувший по нервам и обостривший внутреннее сопротивление, пригвоздил это кино к стене реальности.
***
Лида жила в центре города, в одном из множества домов, что растут как грибы, придавая Перми современный вид. А из центра, всяк пермяк знает, в любой район можно добраться быстро и без проблем.
«Мо-то-ви-ли-ха-мо-то-ви-ли-ха», – стучал трамвай-шестёрочка, пока мимо потряхивались обступившие со всех сторон дома, потом в окна хлынул простор Северной дамбы с утонувшим в снегу кладбищем по правую руку, и тут же призывно подмигнул купол планетария по левую. Это место всегда завораживало и притягивало. Захотелось выскочить и побежать туда, где обрела покой графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, фрейлина последней императрицы, расстрелянная здесь, в Перми, более ста лет назад. Впервые Лида узнала о ней, когда покинула своё «родовое имение», и с тех пор образ самоотверженной графини стал для неё оберегом. Лиду изумляли два факта. Первый – это сила воли, сопряжённая с верностью: Анастасия Васильевна, или, как её звали окружающие, ангел Настенька, добровольно последовала за царственными особами и до последнего вздоха не отреклась от них. Ей было всего тридцать – возраст, когда Лида лишь смутно представляла, как ей жить дальше, с чего начинать строить новую жизнь. Второй факт – это сходства: её бабушку тоже звали Анастасия Васильевна, а сама Лида как две капли воды была похожа на Гендрикову, унаследовав и черты лица, и фигуру бабушки Насти.
Успокоилась ли душа графини? Или, истирая себе вены и нервы, кочует вместе с такими же мучениками, как она, через трамвайные пути, по шершавому асфальту или пропитанному солью снегу, чтобы увидеть, как первый луч скользнёт по Каме, разыграется зарницей, а потом сотворит великое чудо, облачившись в дневные одежды? Или, вращая планетарную сферу, словно глобус, пытается отыскать следы тех, с кем шла в жизни видимой человеческой? Лида вздрогнула, словно воочию увидала проторенную к небесам тропинку, но вечность и космос, разделённые трамвайными путями, существовали независимо друг от друга, не спорили, не выясняли отношений, лишь молча глядели сквозь пробежавшую между ними городскую железную дорогу.
«Мо-ха-ха-ви-ли-ли-то-ли-то-ли», – трамвай натужно громоздился в гору, подбираясь к цирку, покоящемуся на одном из самых внушительных фундаментов в городе. Лида ни разу не была в цирке, она его не любила и даже немного боялась. Ещё в детстве её завораживающе пугали красочные рассказы бабушки о старом балагане, сгоревшем во время войны со всеми животными.
В ночь на 24-ое января 1943 года, когда вспыхнул пожар, мороз стоял за тридцать. Но холод не помогал. Казалось, что он только усиливал действие огня, разгоравшегося под далёким, усыпанным звёздами, небом. Звери орали так, что хотелось гореть вместе с ними. Поговаривали, что из цепких лап огня вырвался только лев по имени Оскар. Но кто знает? Ни одна газета ни на следующее утро, ни на какое другое не сообщала о том пожаре. Радио тоже помалкивало о местной трагедии…
Бабушка пару раз бывала в этом цирке, но представлений вспомнить не могла ни одного, зато с любовью повествовала о шумной галёрке, о своих одноклассниках, о мальчике, вдруг осмелевшем и поцеловавшем её под грохот аплодисментов. Ей не было и четырнадцати. Она потом долго вспоминала этот предвоенный, отчасти случайный, поцелуй, с недоумением прикасалась пальцами к губам и не могла поверить в свою назревающую женственность.
Тот, 1943-ий, для их семьи явился знаковым годом. На второй день после пожара принесли похоронку на отца бабушки, прадеда Лиды. Обычный треугольник. Жёлтая бумага. Тяжёлые строки. Смолкли в сердце стоны животных, народились иные, то истеричные, то глухие, причитающие… молчаливые…
Мать Насти, прабабка Лиды, сумевшая родить единственную дочь по причине женских болячек, ненадолго пережила мужа и умерла вскоре после того, как дочь успешно сдала выпускные экзамены в июне 1943 года. А спустя семь лет от заезжего солдатика на свет народился Лев, маленький, щупленький, с признаками рахита. Ему так же, как и его матери, суждено было стать единственным ребёнком.
«Ли-ха-ха, мо-то-то, ви-ли-ли». Корячится трамвай, пыжится на самом взгорке, вгрызается в мир всеми своими колёсиками. Корчится на саднике* тельце недавнорожденного, отданного в руки знахарки. Пышет благодатным теплом ровно беленая протопленная печь, вот-вот готовая поглотить младенца. Плачет в сторонке Настя, боясь ронять звуки. Но, слава Богу, цепким оказался Лёвушка, трижды саженый в русскую печь на лопате, – выправился, выпрямился. Заиграл на щёчках румянец, заблестели глазки, полетели из уст гули. Будет жить! Отлегло на сердце матери. Позади горочка! Позади… Трамвай громыхнул, втащил своё тело на равнинное место, дёрнулся на пересечении рельсовых путей и радостно подкатил к остановке «Цирк».
***
Через пару остановок Лида вышла. Старые обшарпанные дома тлели неухоженностью, глядя на мир подслеповатыми окнами и жадно улавливая меркнущие в наплывающих облаках солнечные лучи. Проникал ли свет внутрь? Лида уже не помнила. Ей было странно оказаться здесь.
Прошлое и настоящее, втиснутые в один миксер, смешались до однородного состояния. Осталось – подставить стакан, влить в него пахучую жидкость и выпить залпом, не закусывая, чтобы враз ощутить, как налились тяжестью ноги и набилась пенопластом голова. Прошлое уже не выдумать, с настоящим не поспорить, а будущее? Впервые за много лет в Лиду ворвался вопрос – а какое оно, её будущее? Сотрясая душу, в подъезд следом за ней ворвался трамвайный скрежет; раздирая лёгкие, обдала жаром русская печь, поглотившая и выплюнувшая отца; утихомиривая страсти, холодом засквозили слова матери, нашедшей лучшую, закордонную, жизнь; громыхая, хлопнула дверь на последнем, третьем, этаже, раздались тяжёлые шаги, заскрипели подошвы башмаков, и с потолка полетела штукатурка.
Лида, выглядывая меж перил, кто это спускается, медленно поднималась на второй этаж.
– Здрастье вам! Солнце светит. Мир поёт… Это ж… Лидуся, ты ли это? – дядя Витя ускорил шаг, но грузное тело сопротивлялось, и он остановился. – Это ж сколько лет тебя не видел… К отцу?
– Здрастье, дядь Вить! – Лида, с трудом узнав располневшего соседа, обрадовалась, скользнула к нему на ступеньку. – Я к отцу, да. Как вы поживаете?
– Я-то? Да… нормально. Вишь, вон жирный какой стал. Всё думаю, когда дом подо мной провалится, – добрая улыбка, та самая, из Лидиного детства, озарила лицо мужчины. – Ты-то как? Зашла бы на чаёк, а?
– Так заходите к… – Лида осеклась и, не подобрав нужного слова, выдавила: – …нам. Вы ж с отцом не разлей вода были.
Дядя Витя мотнул головой, кривовато осклабился и тихо, будто охраняя военную тайну, продекламировал:
– Были да сплыли! Нет у меня больше гривастого приятеля. Он, как женился, совсем с катушек слетел, молодожён хренов… Ничего, что я так безалаберно про батяню твоего?
Лида, поднявшись на ступеньку выше, чтобы быть вровень с соседом, ответила тем же тоном и с теми же нотками в голосе:
– Ничего, дядя Витя, нормально всё. Я, видать, не зря свалила отсюда, инстинкт самосохранения сработал.
– Не зря, не зря, – сосед насупил брови, – да только не попрощалась ни с кем… Особенно со мной… И завыкала к тому же… Ты это брось! Давай, как раньше, на «ты»!
В этот момент он стал похож на маленького обиженного ребёнка, у которого отняли любимую игрушку.
– Ты это… Заходи, как нагостишься у батяни. Я в магазин и обратно… Дома буду…
Ей захотелось броситься к нему на шею, уткнуться носом в плечо, взахлёб рассказать о том, как много он значил для неё в детстве и юности, но не смогла. Самые нужные слова встали в горле комом, и она, поспешно нашарив визитку в сумке и сунув её дяде Вите, выдавила лишь «хорошо» и пошагала к знакомой двери на втором этаже.
Хорошо. Что, чёрт возьми, хорошо? Что? То, что, надев вместо любимой дорогой шубы обычную куртку-пуховик неприметного цвета, она теперь не выглядит, как идиотка, перед облезлой, крашеной половой краской дверью? То, что докатилась она сюда на трамвае цвета этой самой двери вместо того, чтобы сесть в свою машину и гордо продемонстрировать её отцу? То, что созданное ею настоящее отрезано от прошлого высоченными стенами с колючкой под напряжением? То, что сейчас надо протиснуть руку сквозь эту колючку, чтобы надавить на кнопку звонка? Боже, где четырнадцать лет вылепливания себя, где сотни часов, проведённых с клиентами, ищущими поддержки в словах, что она бережно хранит в себе, но не умеет применить, когда дело касается её лично?
Пенопласт в голове разыгрался, и Лида почти не слышала трели звонка. Дверь открыла женщина, в которой она с трудом узнала невесту отца. Они смотрели друг на друга через порог равнодушно, беспристрастно, холодно. Одна – стройная, ухоженная, с точёными чертами лица, вторая – с вываливающимися боками из обтягивающих джинсов, выпирающим сквозь футболку животом и лицом в мелкую сетку морщин. Между ними лежал коврик с выцветшей надписью «Welcome».
– Добрый день, – поздоровалась Лида и зачем-то спросила: – А отец дома?
– Ну, а где же ему ещё-то быть? Договаривалися ведь, – растягивая гласные, баском ответила хозяйка дома и посторонилась, пропуская гостью внутрь. – Львуся! Лида приехала, встречай!
– Иду, иду, почти бегу! – из большой комнаты появился отец, на ходу застёгивая верхнюю пуговицу светло-голубой, видавшей виды, но опрятной, рубашки. Он, как и этот дом, и квартира, и даже дверь, мало изменился. Близоруко прищуренный левый глаз, своеобразная подбочённость, лёгкая сутуловатость и одутловатость. Новым, броским и непривычным для Лиды, оказались седина на редких, когда-то русых и густых, волосах и опутавшие, словно неводом, лицо морщины.
– Ну, здравствуй, дочь, – он чуть подался вперёд, не понимая, что дальше делать – обнять, или просто дать руку, или выдать распростёртый жест, мол, проходи.
– Здравствуй, папа, – Лида перешагнула блёклое «Welcome», распластала руки в стороны, чтобы обнять отца, но между ними, торя себе дорогу, втиснулась его супружница.
– Давайте уже к столу, водка стынет, – она осклабила маленький рот в улыбке, сверкнула смородиновыми глазками, один из которых чуть косил и казался больше, шмыгнула мясистым носом, нависшим над накрашенными ярко-красной помадой губами, и продефилировала по коридору в кухню, откуда доносились запахи запечённой курицы.
Лида не смогла сходу вспомнить, как зовут жену отца, но память подкинула картинку, как она выглядела на свадьбе. Невысокого роста, приятно полноватая, с вьющимися ниже плеч высветленными волосами и только-только появившейся от употребления алкоголя обрюзглостью. До официальной женитьбы она казалась скромной и обходительной, появляясь в их доме, пекла что-нибудь вкусненькое, ночевать не оставалась. Но так длилось недолго – после пары месяцев встреч отношения были узаконены.
На второй день разгульного веселья по поводу бракосочетания отца Лида узнала много интересных вещей. За столом, в той самой комнате, порог которой предстояло перешагнуть, отец во всеуслышание объявил, что жить они будут здесь и что в доме появилась новая, настоящая, хозяйка. Он торжественно вручил сияющей жене ключи от квартиры и… документы о наследовании его доли имущества. Из напыщенной отцовой речи Лида узнала, что у неё теперь есть мама, что они наконец-то семья! Дядя Витя, приятель отца многолетней давности, дважды свидетель на свадьбах и сосед по совместительству, покрутив пальцем у виска, опрометчиво высказал мысль, что глупо «такой большой девочке навязывать мать и ещё глупее переписывать имущество, лишая дочь наследства, да и вообще, никто не знает, как жизнь сложится». За эти крамольные речи дядю Витю дисквалифицировали как приятеля, низвергли как свидетеля и по-соседски выдворили на его законный третий этаж.
Улучив момент, Лида тоже попыталась поговорить с отцом по поводу их дальнейшего совместного проживания, но разговор не получился, зато скандал назрел капитальный. Зловеще выплеснув под зорким взглядом жены «потом поговорим», он гордо прошествовал в «залу». Пока хозяева дружно напивались вместе с гостями, неразумная дочь заперлась в своей малюсенькой комнатке, наревелась до спазмов в животе, потом позвонила Юлечке, бывшей сокурснице по универу и на тот момент коллеге по работе, собрала самое необходимое и незаметно выскользнула из квартиры.
***
– Проходи, дочь, проходи, – Лев заволновался, и волнение это проглядывало в беспорядочных движениях, излишних шарканьях, дрожащем голосе. – Это ж сколько мы не виделись с тобой, а?
– Долго, папа, не виделись. Четырнадцать лет, – констатировала факт Лида, оглядывая комнату.
– И сколько тебе уже годочков? Никак сорок с изрядным хвостом? – невысокого роста, окатый, в меру упитанный, он всплеснул руками, разглядывая Лиду выцветшими глазками как бы исподтишка. – А мне вот всего семьдесят три. Хорошо сохранился?
Лев поворотился перед дочерью одним боком, потом другим. Ладно сидящие джинсы, аккуратно вправленная рубашка, без излишних трещин ремень выдавали в отце былую аккуратность, да и весь вид квартиры, несмотря на отсутствие новизны, говорил о приверженности почти идеальному порядку. Лида слегка улыбнулась, вспомнив, как в их совместное бытование тяга к спиртному никогда не мешала ему блюсти в доме строгий порядок. Она уже не могла сказать наверняка, пил отец при жизни с матерью или нет, но точно помнила, как мать, собирая вещи, ставила отцу в укор его «домашний перфекционизм».
– Да, за это время много чего изменилось, но ты, папа, не изменился, – не моргнув глазом ответила Лида так, как ждал от неё отец, – да и здесь почти всё по-прежнему.
– По-прежнему, да не по-прежнему! Диван обновили, ремонт кое-где сделали. Загляни в свою… – небольшая заминка по поводу принадлежности комнаты прервалась баском настоящей хозяйки квартиры, явившейся с блюдом, на котором дымилась курица, запечённая целиком:
– Каку таку свою? Давно уже нашу! Спальня там у нас. Спасибо, хоть записку оставила, а то б и не знали, что делать. «Поживу у Юлечки»… – дразнящий тон хозяйки не зацепил. – Телефон вечно не абонент, звони – не дозвонишься. Да, кстати, вещички твои в кладовке, место занимают. Забрать бы их, а то Львусенька не даёт выбрасывать, всё ждёт, что ты вернёшься… Ждунчик махровенький.

