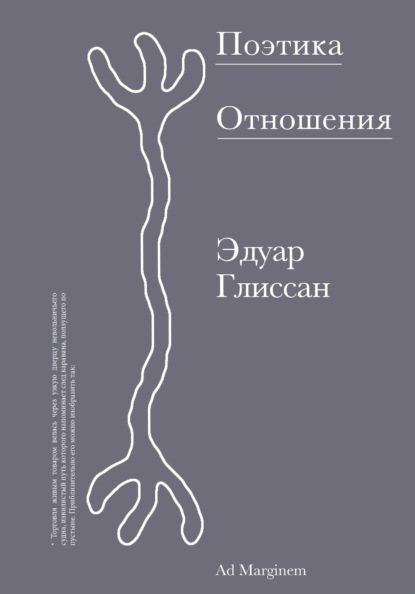
Полная версия:
Поэтика Отношения. Поэтика III
Говоря о Глиссане, никогда не стоит забывать о тесной связи между его инициативами и произведениями. Образы и концепции, уходящие корнями в поэзию, глубже и детальнее раскрывались им в философских эссе, реализовывались в общественной деятельности, определяли структуру и язык его романов. В каком-то смысле было бы неточно описывать Глиссана как мыслителя, поэта, активиста, романиста через запятую. Его идеи и подходы часто настолько переплетены, что вернее было бы назвать его мыслителепоэтоактивистороманистом – слитно.
Это слияние как нельзя более ярко проявляется в книге «Трагически погибший» (Malemort, 1975), опубликованной через несколько лет после «Поэтической интенции». На первом плане роман рассказывает историю трех поденных рабочих – Длана, Меделлуса и Силасье, – описывая через нее реалии развивающейся Мартиники. Однако пересказу эта история не поддается. Временные и пространственные планы, постоянно перетекающие друг в друга, сложные мысленные и языковые конструкции не позволяют читателю целиком погрузиться в сюжет, понять «трагически погибших» заживо антильцев, таким образом превращая произведение в текстовое воплощение «непрозрачности»:
Объединить воды земли и общины. Воду реки – с водой источника. Раки – на завтрак, черную рыбу – в пятницу. Клеть-ловушка, изготовленная для общины. Купель. Фонтан Возрождения.
Эдуар Глиссан. Трагически погибшие
В 1976 году Глиссан отправляется на Карибский фестиваль искусств на Ямайку, где происходит еще одно судьбоносное знакомство – с поэтом из Сент-Люсии Дереком Уолкоттом. Писатели быстро находят общий язык и общее видение истории и реальности Карибских островов. Их дружба длилась до самой смерти Глиссана, сопровождаясь неожиданными совпадениями, самым ярким из которых можно считать их одновременную номинацию на Нобелевскую премию по литературе в 1992 году, в результате присужденную Уолкотту. Представление Уолкотта о себе (и, соответственно, о каждом жителе Кариб) как о потомке двух предков, из которых «первый продал меня, второй – купил», его дилемма – «Что выбрать: Африку или любимый английский язык? Предать обоих или воздать им должное?» – словом, попытки принять и осмыслить прошлое, настоящее и себя в нем не в разделении, а в сочетании оказались невероятно близки Глиссану. А близкие по духу люди нередко в той или иной форме проникали в его книги. Так, во введении к своему позднему труду «Эстетика I. Новый мировой регион» (Esthétique I. Une nouvelle région du monde, 2006) Глиссан работает с образом мартиниканской горы Дьяман, с которой открывается вид на Сент-Люсию, символом их «непреодолимой близости» с Уолкоттом. В расположенном неподалеку от этой горы городке писатель и будет похоронен. Отнюдь не случайно «Поэтику Отношения» открывает строка Дерека Уолкотта: «Море – это история».
В начале 1980-х годов Глиссан возвращается в Париж, где с 1982 по 1988 год работает главным редактором журнала «Курьер ЮНЕСКО», каждый номер которого имеет центральную тему. Несмотря на ряд формальных ограничений, связанных с должностью, писатель и здесь со свойственной ему последовательностью акцентирует принципиальные для него проблемы сосуществования колонизаторов и колонизованных (ноябрь 1983, тема номера: «Расизм. Свободу Нельсону Манделе!»), философии и поэзии в бывших европейских колониях (февраль 1985, тема номера: «Хорхе Луис Борхес. Память человечества») и, безусловно, природы, чьим сердцем является не что иное, как океан (март 1986, тема номера: «Голубая планета Океан»):
Питаемый энергией Солнца, океан представляет собой «земную теплоцентраль», источник всей жизни, гигантский теплообменник, определяющий климат нашей планеты, кладовую питательных веществ, природных ископаемых и энергетических ресурсов. По нему пролегают пути самого дешевого и экономичного транспорта, а его вечно меняющаяся красота всегда доставляет человеку радость и наслаждение.
Эдуар Глиссан. Курьер ЮНЕСКО. Март 1986. От главной редакции в Париже
Иной – тяжелый, давящий – образ океана-моря предстает читателю в изданном в те же годы сборнике эссе «Антильский дискурс» (Le Discours antillais, 1981) – одной из самых остросоциальных книг писателя. «Мы, жители Кариб, – пишет Глиссан, – представляем собой лишь череду взаимоотношений <…>, но чувствуем море внутри нас со всем его грузом вновь открытых островов». Комментатор книги Майкл Дэш говорит об «Антильском дискурсе» как об истории (или, пользуясь термином Глиссана, «не-истории») психического разложения Мартиники, состоящей из череды «упущенных возможностей». Писатель повествует о колонизации, лишившей мартиниканцев своей исходной родины, языка и идентичности и превратившей их в абсолютного «Другого, явленного миру». При этом, как отмечает Дэш, он не рассматривает островитян исключительно в качестве жертв, обращая внимание, что ответственность за экономические проблемы, социальное отчуждение и неспособность вырастить собственную интеллектуальную элиту не в последнюю очередь кроется в патологической психологической зависимости мартиниканцев от метрополии.
«Антильский дискурс» продолжает поэтическое исследование души и природы Карибских островов. Чтобы постичь весь архипелаг, необходимо постичь каждый остров в отдельности, нащупать историческую и сиюминутную взаимосвязь между ними – скрытую, невидимую структуру Отношения, в которой каждая деталь является незаменимой и необъяснимой, так что ее можно только «услышать». Именно из звука и слышания Глиссан предлагает выстроить новую креольскую идентичность – на основе фольклора, музыки, сказительства и креольского языка.
Вскоре ему представилась уникальная возможность соприкоснуться с представителями компактно проживающего креольского сообщества – сохранившего, несмотря на внешние обстоятельства, ту самую языковую и культурную идентичность, которую, как ему казалось, утратили обитатели Мартиники, – в самом неожиданном месте, среди городков и поселков американской Луизианы, бывшей колонии Франции. Глиссан, в 1987 году занявший должность профессора в Институте французских исследований Луизианского университета, с восторгом писал о «чернокожих франкофонных креолах, живущих в этом регионе и до сих пор сохраняющих (или стремящихся сохранить) особенности своей культуры» настолько бережно, что постороннему «непросто сблизиться с их общиной, так как они всеми силами защищают свой изолированный образ жизни, уходящий корнями в их историю». Таким образом, его представление об «архипелаге колонизованных» вышло не только за пределы Карибских островов, но и за пределы чернокожей Африки в целом. Каждый городок, населенный выходцами из колоний, превращается в часть архипелага – в узкой перспективе. В рамках же перспективы глобальной, позже названной «архипелагическим мышлением», Глиссан, к концу 1980-х годов успевший посетить ряд (бывших) колоний и поработать в странах Старого и Нового Света, приходит к восприятию всякой национальной культуры и – шире – всякого человека как части мирового архипелага, пронизанного ризоматическими связями.
Третья книга цикла «Поэтика» – «Поэтика Отношения» – вышла в свет в 1990 году. В ней сконцентрирован весь опыт писателя, все его идеи, все подходы и приемы, в ней переплетены события и явления самого широкого диапазона – от натуралистического описания «открытых ран, кишащих вшей, распластанных трупов», заживо гниющих рабов, перевозимых из Африки в колонии, до анализа концепций Единого в мифе, эпосе и священных текстах. Рассуждая о возможной роли эпоса и трагедии сегодня, Глиссан утверждает, что они «могли бы воззвать к восстановлению самобытности наций, к признанию непрозрачности – только уже не замкнутой в себе непрозрачности – каждой культуры и одновременно вообразить прозрачность их отношений. <…> они могли бы выражать политическое сознание <…>, освободившееся от гражданского исступления; они могли бы служить основой лиризма, который сплавлял бы устное и письменное слово и тем самым позволял бы общинному связующему, не самоустраняясь, <…> вести нас к тотальности без отречения от частного» (наст. изд., с. 108). В этой характеристике, впрочем, можно заметить некоторое лукавство, поскольку все перечисленные задачи, которые автор приписывает гипотетическим «эпосу и трагедии сегодняшнего дня», реализуются им же непосредственно в «Поэтике Отношения». По наблюдению Констанс Фьюри, мы, исходя из определений, данных самим писателем, можем интерпретировать этот труд как основополагающий текст, в котором миф о «сотворении карибского мира» и становлении антильской общности, открывающий работу, постепенно приобретает масштаб метафоры сотворения современного мира как такового и формирования новых социальных связей.
В центре описываемой Глиссаном трагедии прошлого – нарушение общественной родословной, в результате которой община теряет цель, ориентиры и смысл; трагическое же действие – «разбор раздора: поиск (и восстановление) легитимности». Если в предыдущем своем творчестве – в прозе, поэзии, философских эссе – Глиссан был сосредоточен прежде всего на констатации таких раздоров и обсуждал их конкретные решения (что ярко проявляется, например, в «Антильском дискурсе»), то «Поэтика Отношения», охватывая самый широкий круг проблем, предлагает подход, способный помочь залатать (любые) разрывы в мировой ткани. «Поэтику Отношения» саму по себе можно рассматривать как трагическое действие нового типа, в результате которого «на смену разбору раздора» приходит «сбор россыпи». Каковы его этапы?
Часть первая – «Подходы». Она задает тон всей книге. За оптимистическим заголовком первого же раздела – «Открытая лодка» – сразу же следует контрастное, мрачное описание беспросветного, замкнутого, безвыходного трюма невольничьего судна. Бездна – между рабами и работорговцами, между их предками и потомками, между кораблем и сушей, между водной гладью и дном океана. И тем не менее Глиссан по ходу текста «выворачивает наизнанку» образ бездны как ужаса и осмысляет ее как матку, в которой отливается новое восприятие мира, «сознание Целого, вырастающее из взаимодействия с бездной и освобождающее понимание Отношения внутри этого Целого». Фрагменты этого мира, некогда разорванные бездной, сближаются, если увидеть в бездне Отношение. Глава «Странствие, изгнание» вводит уже упоминавшееся понятие ризомы, восходящее к работам Жиля Делёза и Феликса Гваттари, – «разветвленной системы корней, расползающихся сетью по земле или по воздуху», образ которой, как пишет Глиссан, лежит в основе поэтики Отношения, «в которой всякая идентичность расширяется через связь с Другим» (наст. изд., с. 56). И вновь, начиная с рассмотрения противоположных явлений, – стрелового и кругового номадизма, вынужденного изгнания и добровольного странствия, – он в итоге пытается взаимо-связать их, заставить каждое увидеть в другом – Другого, предлагая в качестве формулы, преодолевающей разобщенность, «странническое мышление», которое «предусматривает тотальность, но без колебаний отказывается от притязания ее суммировать и ею овладеть». Не давая четкого определения Отношению, Глиссан, таким образом, уже на первых страницах книги на неожиданных исторических примерах демонстрирует читателю, как смотреть на мир с помощью оптики Отношения, как сделать Отношение образом мысли – или даже образом жизни.
Часть вторая – «Элементы». Элементы становления общества, формирования культуры, развития Отношения. Архипелагическое видение мира применяется здесь Глиссаном как к миру Плантаций (в уже привычном ключе), так и к миру письменности и искусства – барокко и Античности, священных текстов и литературы XX века. Всё так или иначе связывается со всем, ризома расползается, привнося «взаимообогащение, метисаж» культур. «Бытие-в-мире – ничто без количественно выраженной совокупности всех видов бытия-в-обществе» (наст. изд., с. 137). Сколь бы ни были далеки друг от друга элементы этого бытия, ни один из них не может быть забыт или исключен. Мир по Глиссану – их «нерасторжимая цепь».
Часть третья – «Пути». В ней Глиссан ставит под вопрос меру порядка, возведенную в ранг приоритета научной философией, и идею стабильности в целом (не потому ли и введенные им понятия имеют столь флюидный характер?). «Единственные устойчивые свойства, наблюдаемые в рамках Отношения, – пишет он, – это взаимосвязанность происходящих в нем циклических процессов и согласованность контуров их движения» (наст. изд., с. 150). Мир не статичен, не центробежен, он не движется по прямому пути, каждый язык в нем, каждый голос – мир-отголосок, обладающий характеристиками (мир-)порядка и (мир-)хаоса, со-бытие (а не противо-поставление) которых обеспечивает в нем равновесие и постоянство.
Часть четвертая – «Теории». В ее центре – наука, идеологии, идентичность. Науку покорения материи и науку ее внимательного исследования Глиссан сравнивает со стреловым и круговым номадизмом (и таким образом связывает через Отношение разрозненные разделы внутри самой книги), утверждая как конечный результат их обеих поэтику, основную опасность для которой представляет насилие – моды, общих мест и тоталитарности. В качестве же конструктивного протеста против идеологии тоталитарной стандартизации он (исходя из опыта мартиниканцев) предлагает альтернативный подход к идентичности не как к «постоянной величине», а как к «переменной – способности к изменению, управляемому или безудержному» (наст. изд., с. 205).
Часть пятая – «Поэтика». Если Отношение – инструмент разбора раздора мира, то ее стержень – тотальность, ее механизм – воображаемое. Воображаемое – антидот против власти насилия и лицемерия – против исторической закоснелости и лжи современности. «Если воображаемое переносит нас из мысли нашего мира в мысль Вселенной, мы можем представить себе и как обратным путем эстетика, с помощью которой мы конкретизируем наше воображаемое, всегда возвращает нас из бесконечности Вселенной в очертимые поэтики нашего мира» (наст. изд., с. 274).
Идея тотальности получила у Глиссана развитие в виде образа Все-Мира (Tout-Monde). Впервые использованный в романе «Красное дерево» (Mahagony, 1987), он чуть позже был концептуализирован в наиболее, пожалуй, сложном для описания произведении писателя – «Все-Мире» (Tout-Monde, 1993), первом в его библиографии художественном тексте, действие которого происходит не на Мартинике. Этот роман – запутанный клубок событий и голосов, все нити которого ведут читателя к пониманию: «Наш мир – это еще не Все-Мир, поскольку Все-Мир – этот тот мир, который ты перекатывал в своих представлениях, пока он перекатывал тебя на своих волнах». Отдельные фрагменты романа Глиссан позже переработал в эссе, включенные в сборник «Трактат о Все-Мире» (Poétique IV. Traité du Tout-Monde, 1997), а к определению Все-Мира вернулся в «Бухте Ле-Ламантена», завершающей цикл «Поэтика»: «Все-Мир – это осмысленная тотальность всех элементов Вселенной, каждый из которых мы ощущаем как бесконечно важный». Все-Мир – это тотальность в своей сиюминутно постигаемой полноте, осознающая, что полнота абсолютная не будет достигнута никогда, – и так же осознаваемая. Сплав реальности внешнего мира и ее восприятия. Направление и цель Отношения. Непрерывно завершаемая завершенность, работу над конструкцией которой Глиссан, создав в 2006 году культурную инициативу «Институт Все-Мира» (L’Institut du Tout-Monde), напрямую доверил любому, кто разделяет его видение; любому, кто, если вспомнить слова Сенгора, «не выдерживает дистанцию» по отношению к миру, а «касается его, осязает, чувствует».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



