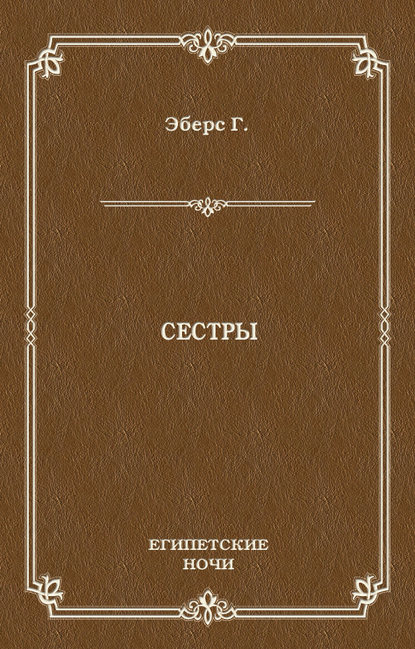
Полная версия:
Сестры
Юноша, не замечая этого взгляда, быстро шел к роще акаций. Отшельник молча следил глазами за этой неподходящей парой, и, когда заметил, что могущественный евнух покорно шел позади римлянина, старик весело хлопнул себя по бедрам и залился громким хохотом.
Если уж Серапион начинал смеяться, ему трудно было успокоиться, и он все еще смеялся, когда перед окном появилась Клеа.
Старик весело и ласково приветствовал свою любимицу, но, всмотревшись в ее лицо, озабоченно проговорил:
– У тебя такой вид, точно сейчас ты встретила дух умершего. Алые губы бледны, и черные тени легли под глазами. Что с тобой случилось, дитя? Ирена ведь была вместе с тобой на церемонии, я знаю. Получили вы дурные вести о родителях? Ты отрицательно качаешь головой. Ну, дитя, верно, ты думаешь о ком-нибудь гораздо больше, чем следует. Как кровь бросилась тебе в лицо! Конечно, красивый римский юноша слишком много смотрел в твои глаза! Он прекрасный юноша, настоящий муж, смелый товарищ…
– Оставь, – перебила Клеа своего друга и покровителя. – Больше я не должна ничего о нем слышать.
– Разве он вел себя непристойно с тобой? – спросил отшельник.
– Да, – воскликнула, густо покраснев, молодая девушка с непривычной для ее рассудительности пылкостью. – Да, он постоянно меня преследует вызывающими взглядами.
– Только взглядами? – переспросил Серапион. – Смотрим же мы и на высокое солнце, и на любимые цветы, сколько хотим, и они не оскорбляются.
– Солнце слишком высоко, а бездушные цветы слишком низки, чтобы человек мог их оскорбить, – возразила Клеа, – но римлянин не выше и не ниже меня. Глаза могут говорить так же красноречиво, как и язык, и то, чего требуют от меня его глаза, заставляет пылать мои щеки от стыда и гнева, когда я подумаю об этом.
– Отчего ты так боязливо избегаешь его взглядов?
– Кто тебе это сказал?
– Сам Публий. Твоя жестокость его так огорчила, что он хотел покинуть Египет, но я его убедил остаться, потому что если есть смертный, от которого я жду добра для вас и ваших…
– То, конечно, это не он! – твердо возразила Клеа. – Ты мужчина и судишь как мужчина, но если бы ты взглянул глубже и почувствовал сердцем женщины, тогда бы ты рассуждал по-другому! Как песок пустыни, гонимый ветром на поля, покрывает ласкающую взор зелень мертвым серым налетом, как буря бороздит глубокое зеркало спокойного моря черными валами с кипящей пеной, так и вызывающая дерзость этого человека жестоко действует на покой моего сердца. Четвертый раз взгляды его преследуют меня во время процессии. Вчера я еще не подозревала опасности, а сегодня – я должна тебе это сказать, ведь ты для нас все равно что отец, а кому еще на свете могла бы я довериться? – сегодня я сумела избежать его взглядов, но во время длинных, бесконечно длинных часов празднества я чувствовала, что его глаза неустанно искали мои. Я не ошибаюсь, я это знала, если бы даже Публий Сципион… для чего я вспомнила это имя? Если бы даже римлянин не пришел хвастаться своим нападением на беззащитную девушку. И ты, даже ты вступаешь с ним в союз! Нет, ты этого не сделаешь, конечно нет! Если бы ты только знал, каково мне было на церемонии, когда я смотрела в землю и знала, что меня оскверняет его взгляд так же, как в прошлом году дождь смыл цвет с побегов виноградных лоз при храме. Он затягивал сеть вокруг моего сердца, и какую сеть! Будто вместо льна на прялку надели пламя, вытянули его тонкими нитями и этой пылающей пряжей вязали петли! Я чувствовала нити и петли, горевшие в моей душе, и не могла их разорвать, и не могла сопротивляться. Да, смотри на меня со страхом и качай головой! Это было так, и раны эти болят еще и теперь, так болят, что я не могу рассказать.
– Но, Клеа, – заметил Серапион, – ты вне себя, ты точно демонами одержима. Иди в храм и молись или, если это не поможет, иди к Асклепию или Анубису, чтобы изгнать злого духа.
– Я не нуждаюсь в твоих богах, – возразила девушка в сильном возбуждении. – Да, я хотела, чтобы ты предоставил нас своей судьбе – разделить участь родителей. То, что теперь нам угрожает, гораздо ужаснее, чем просеивать золотой песок на палящем солнце или толочь в ступках кварц. Я пришла к тебе не для того, чтобы разговаривать о римлянине, а чтобы рассказать тебе, что мне сообщил верховный жрец после шествия.
– Ну? – спросил протяжно и почти с испугом старик. Шея его вытянулась, косматая голова придвинулась к девушке, и глаза так широко открылись, что морщины вокруг почти расправились.
– Сперва он мне сообщил, – начала Клеа, – как скудны доходы храма…
– Это правда, – перебил ее отшельник. – Антиох похитил большую часть сокровищ храма, и казна, у которой всегда довольно денег для святилищ египетских богов, наши поля обложила большими повинностями, но вас так скудно содержат, что хуже некуда, а между тем для вашего содержания (я знаю это наверное, потому что это прошло через мои руки) выплачена сумма в храм. На одни проценты с этих денег можно прокормить не только двух таких птичек, как вы, а десять голодных матросов. При этом вы выполняете очень трудную работу без всякого вознаграждения. Лучше, кажется, украсть лохмотья у нищего, чем отнимать вашу скудную долю у вас. Чего же хочет верховный жрец?
– Он говорит, что в продолжение пяти лет жрецы нас кормили и защищали, что из-за нас сегодня еще храму грозила опасность, что мы должны или покинуть храм, или решиться занять место двух сестер-близнецов, Арсинои и Дорис. Ты знаешь, что их должность состоит в том, что они должны петь погребальные песни при похоронных носилках умершего бога, изображая из себя Исиду и Нефтиду. На них же лежит обязанность возлияния над трупами, приносимыми в храм для освящения. Эти девушки, сказал Асклепиодор, стали слишком стары и некрасивы для этой церемонии, но храм обязан их содержать до конца. Кроме них и нас, содержат еще двух служительниц бога: у храма не хватает средств, потому Арсиноя и Дорис должны только делать возлияния, а мы заменять их при похоронном плаче.
– Но вы не близнецы! – вскричал Серапион. – А по предписанию только близнецы, как Исида и Нефтида[23], должны оплакивать Озириса.
– Нас хотят сделать близнецами, – прибавила Клеа, презрительно сжав губы, – волосы Ирены выкрасят в черный цвет, как у меня, а подошвы сандалий сделают выше, чтобы быть одного роста со мной.
– Сделать тебя меньше они не могут, и светлые волосы Ирены легче выкрасить в темный цвет, чем твои сделать светлыми, – сказал старик, с трудом сдерживая возмущение. – Какой же ответ ты дала на это хотя странное, но все-таки блестящее предложение?
– Единственный, какой я могла дать. Я ответила «нет» и прямо объяснила, что отказываюсь не из страха перед мертвыми и что мы с сестрой из благодарности храму готовы исполнять всякие должности, но только не эти.
– А что же Асклепиодор?
– Он мне не сказал ни одного грубого слова и важно молчал, пока я ему отвечала, только иногда удивленно измерял меня глазами, точно неожиданно открыл во мне что-то новое и незнакомое. Потом он говорил мне, сколько труда положил на нас храмовый учитель пения, как хорошо звучит мой низкий голос вместе с высоким голосом Ирены, какой большой успех мы бы имели при исполнении плачевных песен, как охотно он дал бы нам лучшее помещение и обильную пищу, если бы мы заступили место сестер-близнецов. Как голодом приручают соколов, так и нас он пробовал сделать покорнее, давая скудную пищу. Может быть, и несправедливо, но сегодня я способна думать о нем и о других жрецах только самое дурное. Пусть будет так, как ему хочется! Во всяком случае он мне ничего не возражал, когда я настаивала на своем отказе, и только отпустил меня с приказанием через три дня опять явиться к нему и сообщить о нашем окончательном решении. Я склонилась перед ним, подошла к двери, уже была на пороге, когда он позвал меня еще раз и сказал: «Подумай о твоих родителях и их участи!»
Это звучало торжественно и почти грозно: больше он не сказал ничего и быстро отвернулся от меня. Что хотел он сказать этим напоминанием? Я всегда думаю об отце и матери и напоминаю о них Ирене!
Отшельник задумчиво и недовольно ворчал про себя, потом серьезно сказал:
– Асклепиодор подразумевал под своими словами гораздо больше, чем ты думаешь. Всякая фраза, которую он говорит упорствующему, – это орехи, и, чтобы достать ядра, надо разгрызть скорлупу. Когда он тебе сказал, что ты должна вспомнить о твоих родителях и их печальной судьбе, то эти слова на его языке значат, что вы не должны забывать, как легко вас может постигнуть участь вашего отца, при первой вашей попытке уйти из храма. Не напрасно тебе сообщил Асклепиодор на прошлой неделе, как ты мне недавно сама рассказывала, что родственников осужденных тоже ссылают в рудники. Да, дитя, последние слова Асклепиодора заключают в себе ужасный смысл! Гордость и спокойствие, с которым ты смотришь на это, пугают меня, а я, ведь ты знаешь, не из трусливых. Конечно, отвратительно то, что от вас требуют, но вы все-таки согласитесь, хотя бы ненадолго! Сделай это ради меня и бедной Ирены. Ты сумеешь устоять и вне этих стен в жестоком алчном мире, а маленькая Ирена не сумеет. И потом, Клеа моя, дорогое сердце мое, теперь мы нашли кого-то, кто ваше дело считает своим и кто знатен и могуществен. Ну, что значат три дня! Видеть, как вас выгонят, и думать, что вас везут вместе со всяким сбродом в ужасной повозке на раскаленный юг и на работы, которые убивают сначала душу, а потом тело… Нет, это невозможно! Ты этого не сделаешь ни мне, ни себе, ни Ирене, нет, моя любимая, нет, мое сердце, ты не смеешь этого, не должна этого сделать! Разве вы не мои дети, мои маленькие дочери, вся моя радость, и вы хотите оставить меня одного в моей клетке, потому что вы так…
Голос отказывался служить этому сильному мужчине, из глаз его одна за другой капали крупные слезы, скатывались на руку Клеа, которую он обеими руками притянул к себе.
Глаза девушки затуманились слезами, когда она увидела плачущим своего угрюмого друга, но она осталась тверда и сказала, стараясь освободить свою руку:
– Ты знаешь, отец, многое меня привязывает к этому храму: сестра, ты и маленький Фило, сын привратника. Покинуть вас мне тяжело, страшно тяжело, но лучше я приму на себя эту муку и еще другие, чем позволю Ирене заступить место Арсинои или черной Дорис. Представь себе это дитя солнца накрашенной и обезображенной, коленопреклоненной в ногах похоронных носилок, стонущей и поющей с притворным плачем. Самой себе она покажется чудищем, а для меня, заступающей ей место матери, вечно будет живым укором! Я думаю не о себе! Не изменяя лица, я надену одежды богини и встану у носилок и буду жаловаться и плакать, чтобы растрогать душу каждому в храме. Сердце мое – отчизна скорби, оно похоже на слепого, который потерял зрение, потому что вечно проливал горькие слезы. Мне эти плачевные песни, может быть, облегчили бы душу, она так полна страданий, как до краев налитый кубок; но лучше я бы желала, чтобы тучи навсегда скрыли от меня солнце, туман покрыл пеленой все звезды и черный дым отравил воздух, которым я дышу, чем обезобразить ее тело, омрачить ее душу, ее веселый смех превратить в горький плач и ее детские шалости – в глухую печаль! Лучше я уйду отсюда на смерть и горе к моим родителям, чем это видеть, это допустить!
Серапион закрыл руками лицо, Клеа быстро повернулась и, глубоко дыша, направилась к своему жилищу.
Обыкновенно, заслышав шаги сестры, Ирена спешила ей навстречу, но сегодня Клеа никто не встретил, и, войдя в дом, она не скоро нашла сестру в темноте наступающей ночи. Ирена сидела, сжавшись в уголке, и, закрыв обеими руками лицо, тихо плакала.
– Что с тобой? – спросила старшая сестра, подходя к плачущей и стараясь ее поднять.
– Оставь меня, – рыдала Ирена, быстрым движением отвернувшись от сестры и уклоняясь, как упрямый ребенок, от ее ласки.
Когда Клеа, чтобы успокоить сестру, ласково погладила ее по волосам, девушка вскочила и пылко со слезами в голосе вскричала:
– Я плачу, плачу уже целый час. Коринфянин Лисий после торжества так ласково со мной говорил, а ты, ты совсем обо мне не думаешь и оставляешь меня так долго одну в этой пыльной, гадкой яме. Конечно, я долго этого не выдержу, и если вы меня хотите насильно держать, так я убегу из этого храма; там на улице светло и весело, а здесь мрачно и жутко.
VII
Посреди Мемфиса, укрепленного белой стеной и валами, стоял старый царский дворец – великолепное вновь оштукатуренное кирпичное здание с бесчисленными дворами, ходами, комнатами, залами, окруженное пестро разрисованными деревянными пристройками вроде веранд и прекрасным строением с колоннами в греческом стиле.
Роскошные сады окружали дворец; толпы рабочих возделывали цветники, тенистые аллеи, кусты и деревья, чистили пруды, откармливали рыб, ухаживали за зверинцем, в котором содержались всевозможные звери, от тяжелого неповоротливого слона до быстроногой антилопы, и множество пестрых птиц всех стран света.
Из великолепно отделанных купальных галерей поднимался легкий белый пар, из псарни раздавался громкий лай, из длинных открытых конюшен слышалось ржание жеребят, стук копыт и бряцание уздечек.
Театр – полукруглое новое здание – примыкал к старому дворцу, а посреди садов рассеяны были большие шатры для телохранителей, послов и писцов; целые ряды других палаток, служивших столовыми для придворных чинов, наполняли обширное пространство в садах и за стенами дворца.
Солдатам была отведена большая площадь между городскими улицами и царским дворцом. Здесь по сторонам тенистых дворов стояли дома стражи и тюрьмы. Другие воины жили в палатках, тесно примыкавших к стенам дворца.
Лязг оружия и громкие команды на греческом языке доносились до царицы. Клеопатра сидела на плоской крыше дворца, украшенной мраморными статуями. Вся крыша была засажена широколиственными южными растениями и рощицами благоухающих цветущих кустов. Здесь, в этих воздушных палатах, больше всего любила царица отдыхать летом. Один-единственный выход вел к этому роскошному убежищу, всегда полному прохлады и аромата. Никто не смел войти туда без приказания, дабы не нарушить покоя царицы. У подножия широкой лестницы постоянно стояли на страже ветераны из числа македонских благородных воинов, обязанные повиноваться Клеопатре так же, как самому царю.
При заходе солнца эта пышная стража распускалась и расходилась по домам.
Заслышав слова команды и гул щитов сменявшейся стражи, царица вышла из шатра и взглянула на запад. Заходящее солнце причудливыми красками заливало желтые изрытые громады обнаженных Ливийских гор и группы стоявших рядами пирамид; легкие серебристые облачка, скользившие по ясному небу над тихой долиной Мемфиса, мало-помалу принимали красно-розовый оттенок, и золотистые полосы заблистали по их изломанным краям.
Но царица, вышедшая вместе с молодой гречанкой, белокурой Зоей, своей любимицей и подругой детства, осталась равнодушной к этой волшебной сверкающей красоте и, защитив глаза рукою, стала всматриваться в даль:
– Где-то пропадает Корнелий? Когда перед храмом мы взошли в колесницу, он исчез, и, как я ни смотрела, нигде не видела ни его повозки, ни Эвлеуса, который его сопровождает. Очень невежливо уйти не прощаясь, я могла бы даже назвать это неблагодарностью, потому что я обещала на обратном пути рассказать ему о моем брате Эвергете, которого я жду сегодня в полдень. Публий его еще не знает, потому что Эвергет был в Кирене, когда Корнелий прибыл в Александрию. Видишь ты черные тени вон там, у виноградников Какема? Это он, может быть! Ах нет, ты права, это птицы густыми стаями летают над дорогой. Ты также дальше ничего не видишь? Нет? А ведь у нас обеих молодые и острые глаза. Мне очень интересно, как понравится Эвергету Публий Сципион. Редко можно найти более различных людей, а между тем в них есть что-то общее.
– Они оба мужчины, – перебила Зоя царицу и посмотрела на нее, как бы ожидая одобрения своей повелительницы.
– Да, они мужчины, – гордо подтвердила Клеопатра. – Мой брат еще так молод, а между тем среди возмужавших нет никого, кто бы превосходил его силой воли и непреклонной энергией. Еще раньше, чем я сделалась женой Филометра, Эвергет прибрал к своим рукам Александрию и Кирену, которая по праву должна принадлежать моему супругу, как самому старшему из нас троих. Это было совсем не по-братски, и много есть еще других причин сердиться на него, но, когда через три четверти года я увидела его опять, я все забыла. Я так приветствовала его, точно юный титан оказал мне и моему супругу, а своему брату, важную услугу. Я знаю, каким необузданным часто бывает он, ничему не зная ни меры, ни границы, и, однако, я все прощаю ему, этому молодому гиганту. Вот бы весело было, если бы ему вздумалось бросить Пелион на Оссу![24] В моих жилах течет тоже горячая кровь, а начало всех порывов есть сила, чистая, настоящая сила. Найди мне такую женщину, которую бы не пленяла сила. Ничем мы так не восторгаемся в мужчинах, как силой, потому что это единственный дар, на который боги для нас поскупились. Жизнь сама умеряет слишком бурные стремления, но я сомневаюсь, чтобы удалось укротить стремительный нрав этого человека. Подобные ему всегда безостановочно идут вперед и остаются сильными до конца, а конец наступает для них внезапно. Такой дикий поток мне гораздо милее тихой, безвредной для всех речки на равнине, медленно испаряющейся в болото. Ему можно простить его неистовство. Даже его ошибки или, скажу прямо, пороки невольно возбуждают удивление, но и его достоинства не меньше пороков, а когда он захочет, он очаровывает и старого, и молодого. Скажи, кто превосходит его быстротой и энергией ума?
– Ты можешь им гордиться, – отвечала Зоя. – Так высоко, как Эвергет, даже Публий Сципион не может взлететь!
– Но Эвергету недостает твердой и спокойной уверенности Корнелия. Человек, соединивший в себе хорошие качества их обоих, по моему мнению, не уступит богам.
– Среди нас, несовершенных смертных, это был бы единственный совершенный, – заметила Зоя. – Боги не потерпят совершенного человека, потому что им бы пришлось вступить в состязание со своим собственным творением.
– Вот идет один, в ком нет недостатков! – вскричала молодая царица и поспешила навстречу богато одетой пожилой женщине, которая вела за руку бледного двухлетнего мальчика.
Нежно, но порывисто бросилась царица к малютке и хотела взять его на руки, но робкий ребенок, раньше ей улыбавшийся, испугался, быстро отклонился от матери и, закрыв свое личико ручонками, пытался скрыть его в одеждах важной няни.
Царица сейчас же опустилась на колени, взяла за плечи мальчика и сперва ласковыми словами, потом силой хотела его оторвать от скрывавших его складок платья и повернуть к себе. Напрасно няня, бывшая раньше его кормилицей, ласками успокаивала дитя; мальчик расплакался и тем энергичнее уклонялся от нежных ласк матери, чем настойчивее она старалась привлечь его к себе.
Наконец няня, высоко подняв ребенка, хотела передать его царице, но он крепко ухватился ручками за шею кормилицы и с плачем, перешедшим в крик, отбивался от матери.
Среди этой неудачной борьбы матери с сыном послышался шум колес и топот копыт. Царица сейчас же оставила ребенка, подбежала к перилам крыши и крикнула Зое:
– Публий Сципион идет! Пора одеваться на пир. Упрямый ребенок все еще ничего не хочет слушать? Унеси его, Праксиноя, и позволь тебе заметить, что я тобой недовольна! Ты отчуждаешь от меня моего собственного ребенка, чтобы завладеть будущим царем. Это недостойно тебя или показывает твое неумение и что ты не доросла до доверенной тебе должности. С обязанностями кормилицы ты покончила, и я буду искать и найду другую няню для мальчика. Никаких возражений и слез: с меня довольно крика ребенка!
С этими громко и страстно сказанными словами Клеопатра повернулась спиной к окаменевшей Праксиное, супруге знатного македонца, и вошла в шатер, где уже стояли светильники в нескольких лампадах на маленьких столиках изящной, тонкой работы.
Светильники и вообще все туалетные принадлежности уборной царицы сделаны были из сверкающей слоновой кости, что прекрасно гармонировало с небесно-голубым наметом шатра, расшитым серебряными лилиями и колосьями; подушки были покрыты тигровыми шкурами, а на полу были разостланы ковры из белой шерсти, окаймленные голубыми полосами.
Клеопатра быстро опустилась на сиденье перед туалетным столом и так долго рассматривала себя в зеркале, точно впервые видела свое лицо и густые светло-рыжие волосы. Потом, обращаясь наполовину к Зое, наполовину к любимой субретке из Афин, стоявшей позади нее с другими прислужницами, она сказала:
– Мы сделали большую глупость, выкрасив мои волосы в светлый цвет, теперь придется их так оставить. Публий Сципион, ничего не подозревающий о нашем искусстве, нашел этот цвет волос очень красивым и очень редким, и ему ни к чему знать истину. Египетскую прическу с головой грифона, которая больше всего нравится царю, Лисий и римлянин находят варварской, да и всякий так ее назовет, кроме египтян. Но сегодня вечером мы между своими, потому я надену золотой венок из колосьев с гроздьями из сапфиров. Как ты думаешь, Зоя, к нему пошла бы прозрачная бомбиксовая ткань, что вчера прислали из Коса? Но я не могу ее надеть, потому что она слишком легка и прозрачна, а мне теперь недостает необходимой полноты. Опять видны жилы на моей шее, локоть сделался худой и острый, и вообще я очень похудела. Все это происходит от вечной досады, возбуждения, забот! Как я вчера должна была спорить в совете! Мой супруг всегда уступает, во всем соглашается, каждому хочет оказать услугу, а когда нужно отказать, приходится выступать мне. Хотя я делаю это неохотно, но все-таки я всегда должна этим возбуждать злобу и разочарование, и тем даю повод считать себя бессердечной и холодной. Зато моему мужу я предоставляю сомнительную славу считаться самым мягким и самым ласковым между всеми мужчинами и правителями на свете. Мой сын, конечно, своеволен, и это приводит к разным ненужным выходкам, но все-таки это лучше, чем если бы Филопатр бросался всем на шею. Воспитать мальчика надо так, чтобы он умел говорить «нет». Сама я часто говорю «да» там, где не следует, но ведь я женщина, а женщине больше идет уступать, чем сопротивляться. А самое важное для нас – красота. Остановимся на этих светло-голубых одеждах и накинем сверху сеть из золотых нитей и сапфиров по узлам, эго хорошо пойдет к моему головному убору. Осторожнее с гребнем, Таиса, мне больно! Больше я не могу болтать. Зоя, подай мне свиток. Мне надо немного сосредоточиться, раньше, чем я сойду вниз и буду беседовать за ужином с мужчинами. Когда посещаешь область смерти и Сераписа, вспоминаешь о бессмертии нашей души и о нашей участи за гробом, тогда особенно охотно перечитываешь то, что сказал любимый мой мыслитель о близких нам вещах. Прочти, Зоя.
Подруга Клеопатры сделала знак незанятым служанкам отодвинуться назад, опустилась на низкую подушку у ног царицы и начала читать с глубоким пониманием и выразительностью, вся сосредоточившись и не замечая ни звона драгоценностей, ни шелеста роскошных тканей, ни звука падавших в хрустальные чашечки капель благовонных масел и эссенций, ни коротких тихих вопросов прислужниц, на которые так же быстро и тихо отвечала Клеопатра.
Около двадцати молодых и пожилых женщин группами стояли вдоль стен обширного шатра или неподвижно, как изваяния, сидели на полу на подушках, ожидая одного взгляда в их сторону, чтобы немедленно исполнить приказание. Только глазами и тихими движениями пальцев переговаривались они между собой. Они знали, что царица не любит, чтобы ей мешали слушать чтение, и всякого, кто пойдет наперекор ее желаниям и склонностям, она не задумается отшвырнуть от себя, как старый башмак или порванную струну.
Черты лица Клеопатры были неправильны и заострены, скулы и губы, за которыми сверкали белоснежные зубы, были сильно развиты, но когда она, вся сосредоточившись, с блестящими глазами, делавшими ее похожей на пророчицу, с полуоткрытым ртом, слушала строки любимого Платона, она совершенно менялась, полная такой невыразимой прелести, которая, казалось, исходила из лучшего, высшего мира. В такие минуты она была гораздо красивее, чем теперь, нарядная, украшенная, окруженная толпой женщин, громко и без меры ей льстивших.
Зоя кончила и положила свиток Платона на место.
Клеопатра любила громкие восторги вокруг себя; и, чтобы насладиться ими еще больше, приказано было, чтобы число женщин во время ее туалета было как можно больше. Со всех сторон прислужницы держали перед ней зеркала, поправляли складки платья, подтягивали ремни сандалий, украшенных драгоценными каменьями.
Здесь восторгались густотой ее локонов, там – ее стройной фигурой, нежностью лодыжек и восхищались ее действительно крошечными ручками и ножками.
Одна девушка делала другой замечания, но настолько громко, что их все слышали, о блеске глаз царицы, превосходящих чудные сапфиры, украшавшие ее голову и платье. Субретка Таиса из Афин серьезно уверяла, что Клеопатра пополнела, потому что сегодня стянуть золотой пояс гораздо труднее, чем десять дней тому назад.

