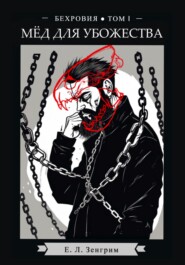скачать книгу бесплатно
– Просто потрясающе, – выдыхаю я. – И сколько времени у меня в запасе до… «подкрутки»?
– Четверть суток, – сухо отвечает старик. – Но лучше загодя подкручивать… Одни боги знают, насколько надежна эта гремлинова приспособа, хе-хе.
Восхитительно. Просто восхитительно. Мало того, что я буду зверушкой на побегушках, так еще и на счетчике! Каждые чертовы шесть, а лучше пять часов придется терпеть артрозные старческие пальцы на холке. Скажи кто-нибудь неделю назад, что жизнь Бруга будет зависеть от рассеянной памяти деда-склеротика, я бы рассмеялся тому в лицо. Обмолвись кто-либо, что я буду гонять харчи в пыльной кирхе, связанный «гарантиями» занудных легашей… О, я бы как следует дал тому под дых.
Но жизнь – подлая сволочь. И остается только одно. Стать сволочнее нее.
В глубине кирхи хлопает дверь. Тяжелое громыхание шагов сотрясает мои мысли.
– Добавка, – хмельным, неровным голосом объясняет Табита, откинувшись на спинку стула.
– Ой, не, – Лих держится за живот, глубоко выдыхая. – Еще хоть кусок, и на мне дублет разойдется.
Огромное, вдвое выше человека существо возникает между колонн. Его необъятное пузо, покрытое серой щетиной, кажется, растет прямо из шаровар – таких просторных, словно сшиты из цельного паруса. Ручищи и гнутые ноги, толстые как бревна, оканчиваются пальцами-копытами, а каждый кулак – размером с мою голову. Бочковидная грудь, огромная клыкастая голова, вдавленная в покатые плечи минуя шею… Зверь мог выглядеть еще свирепее, если б не одутловатая морда – с выражением полного смирения на ней.
– С Хорхой вы уже знакомы, – ухмыляется Табита. – Он волок тебя на плече от самой станции, ага.
– Точно, – поддакивает Лих, – и та-а-ак тебя о стену приложил! Клянусь, я даже грохот слышал!
– Ну спасибо, э-э-э, Хорха, – я смотрю на зверюгу снизу-вверх. Мне становится не по себе, когда я вспоминаю, с какой легкостью тот оторвал меня от земли. Как пушинку.
– Хорк-ха, – отвечает полулюд, навострив широкие рваные уши.
Когда Хорха не то говорит, не то хрюкает, его обвисшие жирные щеки трясутся под пучками дымчатого меха – почти что студень. Доброжелательная улыбка? Злобный оскал? На серой морде сложно различить какие-то эмоции – уж больно нечеловеческая у Хорхи мимика. А от глаз-бусинок и вовсе остался только черный блеск – так прочно они угнездились в складках нависших бровей.
– Хорха-то у нас парень ладный, – успокаивает Строжка, как бы секретничая со мной. – Сила животная, а нрав… Столько доброты ни в одном человеке нет.
– Хорк-ха тха-гу, – отвечает полулюд и согласно дергает пятачком на оплывшем кабаньем рыле. Я только сейчас замечаю, что в руках у него – массивный котелок. Хорха опускает его на стол, лязгая крышкой, и из зазора валит пар с насыщенным рыбным запахом.
– Свинуш-цеховик, – озвучиваю я свое внезапное открытие.
– Наблю… дательный, – икает Табита.
– Но ведь свинуши как рабы, – недоверчиво объясняю я свое удивление. – В Республике они за еду и крышу работают, а здесь… Цеховик?
– Бехровия – свободный город, сынок, – гордо поясняет Табита. – Бесправных здесь не бывает, ага. Что человек, что гремлин, что свинуш – разницы нет. Здесь каждый получает ровно столько, сколько может заработать честным трудом. А респы – просто гамоны. И их гамоново «равенство» – пустая брехня.
– А где ж мои права, раз Бехровия такая вся из себя замечательная? – огрызаюсь.
– Вместе с правами приходят и обязанности, – отвечает женщина. – Так что, как мастер – цеховику, советую тебе перестать вякать о своих законных правах, не то придется и за преступления по закону ответить.
– Когда мы Хорху взяли, – скрипит старик, пытаясь сменить тему, – он-то на котельной трудился. Угольщиком, значит. Совсем плохой был, тощий, больной…
– Хозяин котельной споил его, гамон, – Табита выпячивает челюсть. – Дошло до того, что Хорха работал за спирт, будто мы в каком-нибудь Стоцке! Но мы всё утрясли… По-своему, – она мрачно улыбается, прикрыв глаза болотного цвета. – Иногда можно и забыть о правах тех, кто сам о чужих правах забывает.
– Таби! – шикает на нее Строжка.
– Но это неправильно, ага, – поправляется женщина. – В общем, Хорха теперь полноправный цеховик.
– Мы-то отучили его от спирта, да вот от силосной водки никак не удается… – гнет свое Строжка.
Помбей. Я вдруг вспоминаю, как расплескал флягу этого пойла тогда в Прибехровье.
Какая же хитрая баба…
– Так вот на кой черт ты достала помбей, когда мы вели нашу милую беседу, – щурюсь я. – Ты приманила свинуша на запах.
– Ха, раскусил-таки, – довольно щерится Табита. – Ловкий прием, ага?
– Шельма, – цежу я, обиженный на себя за собственную глупость. Я ведь еще и сам метнул ту дьяволову флягу… А для чуткого свинушьего обоняния это было похлеще взрыва на парфюмерной фабрике. Идиот.
Лих, до того сосредоточенно ковырявший в зубах плоской деревяшкой, вдруг влезает в разговор.
– О, точно! – выплюнув щепку, он проводит языком по зубам. – Этот трюк еще дядя Яков выдумал. Ну, когда он еще…
Лих внезапно умолкает, словно сболтнул лишнего. Он опускает взгляд в стол, а Табита меняется в лице.
– Лих, етить тебя… – шепотом ругает его Строжка.
– Мы засиделись, – гробовым тоном объявляет мастер. – Подъем рано, а вы тут… языками чешете.
– Ну, я просто… Того… – жалко оправдывается Лих, поскребывая ногтем по пустой миске.
– Отс-с-ставить, – обрубает Табита, поднимаясь из-за стола. Несмотря на количество выпитого виски, движения женщины остались ровными, чего не сказать о заплетающемся языке. – Я уш-ла. И вам стоит. Строжка, – она бросает на старика холодный взгляд из-под горшка темных волос, – дальше сам.
– Хрок-ха н-ху на? – вопросительно хрюкает свинуш, обнажив желтые клыки.
– Доброй ночи, ага, – завершает она и, накинув на плечи чернильный плащ, пропадает за колонной.
В кирхе воцаряется неловкое молчание. Ровно до тех пор, пока не хлопает входная дверь.
– Это что еще было, дружище? – не выдерживаю я.
– Дядя Яков, – вполголоса повторяет Лих, – больная тема…
– Лих, ёкарный ты балбес! – скрипит на него Строжка, строго сверкнув стеклышками очков. – Помолчи-то уж, ради богов. Тебя в разведку не возьмешь, всё-то выболтаешь…
– А я что? – Лих надувает губы. – Я ничего…
– Ой, – дед отмахивается, – чем трепаться попусту, ступай-ка и проводи братца Бруга до его комнаты.
– Понял, понял, дед, только не зуди, – фыркает Лих.
– Мне кто-нибудь уже расскажет грязные тайны цеха или нет? – не унимаюсь я.
– Всё-всё, разговорчики завтра, молодежь, – ворчит старик. – Я встану с зарей-то, дык тогда и ошейник утром налажу, пока спать будешь… Всё настроение отбили, экие вы.
Собравшись пойти прочь, я закатываю глаза. Но тут же вспоминаю про котелок на столе, уже успевший расстаться с жаром и паром:
– Погоди, дружище, а добавка?
Но Строжка, оказывается, сложил очки в кармашек на груди и куда-то уковылял. Уверен, он прекрасно расслышал мои слова, но прикинуться глухим ему показалось лучшим выходом. Удобно ты придумал, ушлый старикан.
В обеденной остался только немногословный свинуш. Хорха уже схватил котелок в охапку и другим копытцем сгребает грязные плошки-поварешки в свернутую скатерть.
Ну и Лих, конечно – опершись о колонну, напевает какой-то незнакомый мотив. Парень старается делать праздный вид, но не высказанная им обида повисла в воздухе, явная и почти что осязаемая.
– Ты там скоро?
– Да-да, дружище, – усмехаюсь я невесело. – Уж не терпится осмотреть свои хоромы.
Скорей бы спать – и с головой в рабочие цеховые будни!
Нет, шучу.
***
Мое новое жилище роскошью не отличается. Горемыку Бруга поселили в полупустом двухэтажном бараке, возведенном на заднем дворе – между кузней и дощатым гаражом для мудреных местных кибиток. Лих рассказал, что раньше, когда цехом руководил таинственный «дядя Яков», бараки были битком: цеховиков селили по двое-трое и даже делили здание на мужскую и женскую части.
Куда пропал Яков – тайна, покрытая мраком. Но, какая бы участь его не постигла, ныне цех Хрема находится в упадке. Большинство цеховиков плюнуло на Табиту и разбежалось по городу: одни вступили в Белое братство и иные цеха, другие подались в констебли или вольные кондотьеры, что охраняли питейные заведения и усадьбы богачей… А третьи – встали на путь криминала. К счастью для этих третьих, Калека, личность даже более загадочная, чем таинственный Яков, своим бандюгам платил щедро.
В цехе Хрема осталась лишь жалкая горстка – и заселила второй этаж бараков, где было суше осенью и меньше насекомых летом. Нижний этаж остался под склад всякого хлама – наследия лучших времен. Лих объяснил, что Табита уже не один год порывалась устроить там уборку, но Строжка всякий раз был агрессивно против ревизии драгоценного мусора. Утверждал, что там «всё нужное» и «авось пригодится». Но на деле все эти одежды, заскорузлые до прочности цемента, потемневшая мебель и бесформенная металлическая начинка, вырванная из невесть каких агрегатов, так и врастают в стены и пол бараков по сей день.
Моя комнатушка на втором этаже тоже знавала лучшие времена. Паркет утратил ровность, дыры в желтоватых обоях сыпали песком, клочками мха и мышиным пометом. В одном углу кособоко притулилась печь-буржуйка – чтоб не окоченеть холодными бехровскими ночами, в другом – скучал секретер, оседланный перевернутым стулом. Прямо у двери караулила койка – простецкая и скрипучая, но матрас на ней неестественно чистый, хоть и просевший посередине под чьим-то грузным брюхом.
Я наспех обмылся в кадке, чтоб не замочить бинты, надел чистое тряпье, бывшее мне не по размеру… И матрас, укрытый бельем с приятным душком дешевого мыла, принял меня в свои пружинные объятия.
Эта ночь стала самой сладкой за последние недели. Меня не беспокоили ни призраки былого, ни разлука с Цепью, ни даже тяжелая железка на шее. Всё это временно, бодрился я.
Временно – как и то, что фонарь под потолком лишен моего любимого абажура.
***
Утром меня разбудил навязчивый старик. Что-то напевая себе под нос, он долго подкручивал ошейник – тянул, давил, скрипел, не обращая внимания на сонную ругань Бруга. А когда ушел прочь, сна было ни в одном глазу.
На секретере я обнаружил свои нехитрые пожитки, сложенные стопкой. Я удивился, когда вдруг понял, что вся моя одежда отстирана и заштопана. Даже окованные носы на башмаках оказались вытерты от красных разводов и угольной пыли. Единственное, рубашка была другая – ведь старая годилась теперь только на тряпки. Ее, разодранную мохнатой грудью Нечистого, колотую ножом, запятнанную кровью моей и чужой, было не спасти. Но черная кожаная куртка, моя самая верная – после Шенны – спутница, как влитая села на плечи. Чертовски сладкое чувство. Неужели всё налаживается, Бруг?
Ага, конечно, наивный ты увалень. Ошейник тут, а Цепи-то и в помине нет – ни на столе, ни в карманах, ни даже под матрасом. А без нее ты голый и никчемный – и только куртка прикрывает твою беспомощность. Только она, скроенная тобой самим из толстой кожи зобра, придает тебе силы. Делает тем, кто достоин зваться гребаным Бругом.
А пока сожми зубы, вдолби вшивую гордость поглубже, хоть в самую печень – и марш втираться в доверие цеховикам. И хоть о стенку расшибись, но заставь их доверять тебе.
Пусть все узнают: Бруг – любому цеху друг… пока Бругу это выгодно.
Так думал я наверху, расчесывая бороду пальцами. Но, как выясняется теперь, сидеть на месте мне не суждено. Кирха пуста и темна – как взгляд Вилли Кибельпотта, падающего на рельсы.
И только Лих, этот безусый пацан с несмешными шутками, ждет меня внутри. Задрав ноги на стол и пяткой касаясь миски, что соседствует со стаканом чего-то бурого.
– Проснулся, – он зевает, аристократически не размыкая губ. – Давай хавай и пойдем.
Он наглеет вконец и постукивает сапогом миску.
– Еще раз лапти к моей жратве поднесешь, и я тебя схаваю, – я многозначительно провожу пальцем по своему лицу. От пробора в смолистых волосах, через нос и до самой бороды. По заросшей линии, где еще недавно белели зубы Нечистого.
– Ой-ой, – закатывает глаза Лих, нехотя отодвигаясь. Парень не знает, что Нечистый надолго ушел в спячку, – неделю в ведро срал, а тут нате, княжна какая!
Я молча сажусь перед миской. Вчерашние миксины неаппетитно ломаются на языке, а остывший суп черпается сгустками. Даже не разогрели, собаки…
– Ты хавай быренько, – подгоняет Лих, – времени в обрез.
– А куда нам спешить? – с набитым ртом спрашиваю я.
– На дело, куда еще! – фыркает Лих. – Все уже разошлись с первыми петухами. А меня запрягли с тобой няньчиться…
Парень и правда уже собрался «на дело». Облегающие темно-синие бриджи, такого же цвета блуза и сверху – лазурный жакет, украшенный новомодным серебристым узором, что называли «аргальским огурцом». По имени Аргалии, города-порта, чьи торговые армады бороздят Спорное море. Вообще, в каждом порте Хаззской лиги: от Эстура до, собственно, Хаззы, – постоянно изобретают свои «огурцы». И каждый год рынки всего Запада ломятся от новых выдумок приморского бомонда.
– А чего ж ты меня не разбудил, если так от скуки изнываешь? – щурюсь я.
– Ну, э-э-э, – мямлит Лих. В полумраке кирхи кожа его лица кажется неровной от густой россыпи веснушек. – Я как бы беспокоить не хотел…
– Или просто дрых здесь, натирая дыры на портках.
– Ничего не дрых! И нет там никаких дыр, – надувает губы Лих, мигом сев на стуле ровно. – Откуда дыркам взяться, когда одежда только-только куплена?
– А с каким расчетом покупал? – ухмыляюсь я. – Что карманники будут разбегаться, вот-вот завидев твой благородный голубой оттенок?
– Доел, я смотрю?! – Лих вскакивает со стула, и выражение его по-девчачьи ладной мордашки сменяется на уже знакомое мне. Въедливое и злое, как у его стервосестры. – Тогда вставай и идем, дядя.
– Эх, малый, разве не учили тебя, как важен первый прием пищи? – посмеиваюсь я, отодвигая прочь тарелку с ободком из застывшего жира.
– А тебя разве не учили, что карманники – не забота доблестных цеховиков? – передразнивает Лих.
– А что же тогда забота? Девки и вино, наверное?
– Ну да… Ну, то есть нет, не главная забота, – парень снова становится самим собой, замешкавшись и расслабив мышцы лица. – Наша забота – это твари всякие, само собой. Типа… Нечисть там, одержимые… Ой, короче, покажу тебе всё сегодня!
– А оружие мне полагается? Цепь какая-нибудь, например? Например, моя? – я поднимаю бровь, с опаской отхлебывая мутно-коричневое нечто из стакана. На поверку это просто-напросто травяной отвар. Подслащенный медом, он не утратил горечи, но дарит сносное шалфейное послевкусие.
– Таби… Ну, мастер Табита то есть, не велела, – пожимает плечами Лих. – Говорит, ты на волоске висишь, и «испытательный срок расставит всё по местам, ага». Да и черт его знает, где твоя цепочка…
– Бред какой-то, – я со стуком опускаю стакан на стол. – Мне что, залож… одержимых поцелуем разлучать? – даже ввинчиваю таборянские словечки, обомлев от такого абсурда. – Или вежливо просить их повеситься на ближайшем столбе?!
– Да не трусь ты, Бруг, – Лих самодовольно задирает острый подбородок, и по лбу его рассыпаются кудри цвета ячменного пива. – Как положено, любому новобранцу дают цеховика-наставника. А у тебя их целых два! Первый, это я, если ты не понял…
– А второй? – хмыкаю я, уже предвкушая незабываемое наставничество.
– Великолепный Сираль, конечно! – торжественно заявляет Лих и, нагнувшись к спинке стула, вдруг резко выпрямляется – как тетива болтомета после выстрела.
Металлически чиркает, и в вытянутой руке «цеховика-наставника» возникает длинная шпага. Та самая, что гнала мою Шенну в Прибехровье. Чертова шпага… Однако выполнена неплохо. Пусть клинок ее с нехарактерным желобком и много шире, чем у шпаг дуэльных, но отполированная до блеска чашка, защищающая кисть руки, выглядит статусно. Она не из золота и даже не позолочена, да уж больно хитро и тонко сплетены ее дужки.