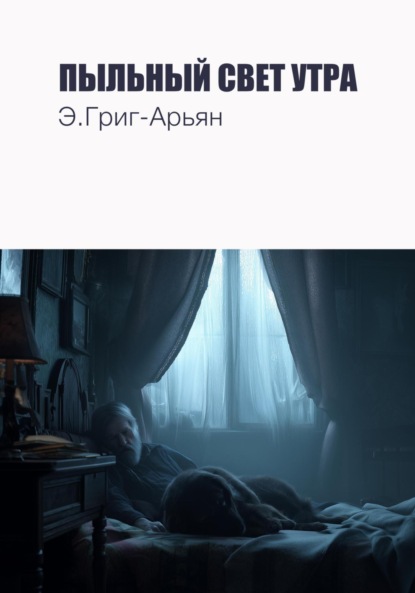
Полная версия:
Пыльный свет утра

Э. Григ-Арьян
Пыльный свет утра
I
Пыль. Всегда пыль. Она не оседает, она есть, как сущность вещей, как невидимая завеса, накинутая на мир представлений, сквозь которую пробивается тусклый свет утра, не приносящий ни утешения, ни надежды, лишь очередную порцию этого самого бытия, которое, если вдуматься, является непрерывным, бессмысленным страданием. Старик пошевелился под тяжестью одеяла, ощущая скрип старых костей, каждый сустав – отдельный, мелкий, но настойчивый голос в хоре общего распада, что зовется телом.
Под подушкой, его верный спутник, не Атман, нет, тот еще мирно похрапывал, свернувшись клубком у подножия кровати, его единственная живая душа, которая не требовала ничего, кроме тепла и редкого почесывания за ухом, и которая, пожалуй, единственная понимала без слов ту тихую, всепроникающую тоску, что была самой атмосферой этого дома. Под подушкой лежал пистолет. Тяжелый, холодный металл, ощутимый даже сквозь ткань наволочки. Гарантия. Не от смерти, о нет, смерть – это было бы освобождение, если бы не слепая Воля, цепляющаяся за существование даже в самом ничтожном атоме. Гарантия от вторжения. От грубых, немытых рук, которые могли бы покуситься на его книги, его рукописи, на те немногие материальные свидетельства жизни, прожитой в попытках понять, почему эта жизнь так невыносима. Мир – это хищник, и он, старик, предпочитал встретить его вооруженным, даже в постели.
Он открыл глаза. Серое утро Парижа или Франкфурта, или Москвы, неважно, города менялись, пыль и тоска оставались. Свет пробивался сквозь плотные шторы, превращаясь в пыльные столбы, в которых кружились мириады невидимых частиц – еще одно напоминание о тщете всего сущего, о вечном движении без цели, о распаде, начинающемся в момент рождения. Он прислушался. Тишина. Только ровное дыхание Атмана, да где-то далеко, кажется, скрипнула повозка, или это просто ветер играл со старым деревом за окном? Паранойя – не болезнь, а честное признание реальности, где каждый звук может быть предвестником беды. Болезнь. Вот еще один страх. Не боль, нет, боль – это одна из граней страдания, которую он изучил вдоль и поперек. Страх перед бессилием, перед угасанием разума, перед зависимостью от других. От тех, кто не способен понять, кто живет инстинктами и иллюзиями. От женщин.
Мысль о них вызвала привычный спазм отвращения, смешанного с чем-то вроде старой, зажившей, но все еще ноющей раны. Бесполое существование – единственно возможное для того, кто видел мир без розовых очков, без дурмана инстинктов. Они – инструмент стихии, слепой, ненасытной стихии, которая требует продолжения своего бессмысленного танца. Их легкомыслие, их поверхностность, их абсолютная погруженность в мир представлений, неспособность проникнуть за его зыбкую завесу – все это делало их не только чуждыми, но и опасными для человека, посвятившего жизнь поиску истины.
Молодость. Как странно, что эта мысль пришла именно сейчас, под тяжестью старых костей и пистолета под подушкой. Она была… звали ее Элеонора, кажется? Или Элизабет? Имя стерлось, остался лишь флер наивной надежды, который, он помнил, тогда еще теплился в его душе, не до конца выжженной пламенем познания. Он видел в ней не просто тело, не просто потенциальный сосуд для продолжения рода, но… спутницу? Душу, способную понять? Как глупо. Он помнил вечер в саду, запах роз, смешанный с ее легким, дурманящим ароматом. Он говорил о Шеллинге, о мире как Воле, о бремени сознания. Она слушала, склонив голову набок, и он, в своем юношеском пылу, принимал ее молчание за глубокое размышление, а не за скуку или просто вежливое ожидание паузы, чтобы спросить о какой-то пустяковой светской новости или поправить выбившуюся прядь волос. А потом она рассмеялась. Легко, беззаботно, как зверек. Он помнил, как она сказала что-то вроде: «Ох, Артур, вы так серьезны! Неужели нельзя просто наслаждаться жизнью, этим прекрасным вечером?» И взгляд ее был пуст. Пуст от понимания. В нем было лишь желание наслаждения, поверхностного, сиюминутного, того самого, что и есть суть страдания, вечного стремления к тому, что ускользает. В тот момент что-то оборвалось. Не просто влюбленность, нет, это было глубже. Оборвалась последняя ниточка, связывающая его с этим миром иллюзий и инстинктов, с возможностью найти понимание там, где его не может быть по определению. Она, в своем неведении, в своем легком смехе над его «серьезностью», была самым наглядным, самым живым доказательством его философии. Инструмент воли, красивый, но слепой и бессердечный в своей абсолютной сосредоточенности на себе, на своем инстинкте, на своем представлении о счастье, которое было миражом. С тех пор они перестали быть для него загадкой. Стали фактом. Неприятным, но предсказуемым.
Он тяжело вздохнул. Атман, услышав движение, поднял голову, моргнул и, потянувшись, спрыгнул на пол, виляя хвостом. Единственное существо, не требующее объяснений, не замаскированное приличиями или инстинктами размножения. Простое, верное присутствие.
Старик откинул одеяло. Холодный воздух коснулся кожи. Еще один удар реальности. Он осторожно вытащил пистолет, положил его на тумбочку, рядом с томом Упанишад. Медленно, кряхтя, опустил ноги на пол. Пол был холодный. Каждый шаг по старому паркету отзывался тихим скрипом. Он шел в ванную, ощущая тяжесть возраста в каждом движении. Отражение в зеркале не лгало. Мешки под глазами, глубокие морщины, седые пряди, редкие на висках. Лицо человека, который видел слишком много, слишком глубоко. Лицо, на котором отпечатались все страдания мира, потому что он добровольно взял их на себя, пытаясь понять их природу.
В кухне было еще темнее. Он включил газ, поставил чайник. Привычное шипение воды, постепенно нарастающее, казалось звуком самой природы, беспокойной, вечно стремящейся, никогда не достигающей покоя. Пока вода закипала, он открыл шкаф, достал кофе. Запах горький, терпкий. Как сама истина. Он молол зерна в ручной мельнице – монотонное, медитативное действие, позволяющее мыслям блуждать. Пыль от кофе, смешиваясь с пылью в воздухе, создавала свой микрокосм. Мир как представление, состоящий из пыли и горечи.
Он заварил кофе, налил в любимую чашку, старую, с щербинкой. Атман примостился у его ног, наблюдая. Старик отломил кусочек хлеба, бросил ему. Собака аккуратно съела. Старик сел за стол, обхватив чашку руками, чувствуя тепло. Утро началось. Еще один день в этом лучшем из худших миров. День, наполненный пылью, страхами, горечью познания и тихим присутствием собаки. День, который, как и все предыдущие, будет очередным витком на колесе страданий, приводимом в движение слепой, ненасытной Волей. И он, старик, будет наблюдать за этим, записывать, пытаясь найти хоть какой-то смысл в этом бессмысленном танце, зная, что смысла нет, но не в силах перестать искать.
Часы на стене пробили семь. Тяжелые, монотонные удары. Каждый удар – еще один шаг по пыльной дороге бытия. Он сделал глоток горячего, горького кофе. День только начинался. И это было не утешение, а приговор.
II
Утро приходило, не как ясное, чистое обещание нового дня, но как медленное, тягучее размывание той более плотной, более честной темноты ночи, выявляя нечто серое, лишенное цвета, лишенное надежды, как старая, выцветшая фотография. Он ощущал его не глазами – они видели муть стекла, – а в костях, в каждом суставе, в медленном, скрипучем пробуждении тела, этой непокорной, дряхлеющей оболочки, обреченной на продолжение, на бытие, когда душа уже давно знала бессмысленность всего этого. Атман, пес, чья простая, не обремененная мыслью верность была единственной теплой, неискаженной константой в этих стенах, поднял голову с коврика у кровати, его присутствие – тихий, неосуждающий факт, стоящий вне круговерти желаний и страданий.
Ритуал был вечен, неизменен, вытравленный в плоти и памяти годами повторения: подъем, тяжелый, волочащийся шаг к кухне, где холод плитки казался упреком, чайник, чей свист был насмешкой над тишиной, и наконец, кофе – темный, горький, лечебный запах, его единственный, признанный порок, его краткое, искусственное убежище от резкости существования, от этой вечной, невыносимой ясности. Пока кофе настаивался, он стоял у окна гостиной, глядя вниз, на мир, через стекло, которое казалось не просто стеклом, но пленкой, покрывающей его собственное зрение, или, быть может, отражением той мути, что скопилась внутри.
Внизу, на мостовой, уже начиналась суета, этот бессмысленный, лишенный цели танец марионеток, дергающихся на ниточках слепой, ненасытной жажды. Он видел их – маленькие, далекие фигурки, их лица – сжатые в напряжении, или пустые, или отмеченные печатью вечной, неосознанной заботы. Женщина в строгом, темном платье, бегущая к остановке, гонимая призраком успеха, этой иллюзией восхождения, которая рассыплется в прах, как только Воля, это вечно голодное, требующее Существо, найдет новую цель для ее страданий. Молодая пара, сплетенные руки, смех, тонкий и хрупкий, как стеклянные колокольчики, их мимолетное счастье – блик на поверхности той темной, бездонной реки, обреченный на угасание, потому что Воля не терпит покоя, она подкинет новые желания, новые препятствия, новые формы той же вечной боли. Старик, похожий на него самого, медленно бредущий с сеткой, его путь почти завершен, но даже в дряхлости, даже на краю, стойкость не отпускает, заставляя цепляться за остатки сил, за жалкие крохи иллюзии, что каждый прожитый день, каждый болезненный шаг имеет значение перед лицом этой равнодушной пустоты.
Бессмысленно, – слово беззвучно формировалось где-то глубоко в горле, слово, ставшее его вторым дыханием, эхо Шопенгауэра, ставшее его собственным голосом. – Все это лишь проявления, искаженные отражения той же слепой, безжалостной силы, которая хочет, хочет, хочет, и никогда не будет удовлетворена. И потому страдание – это не проклятие, это условие. Желание – страдание, да. Но достижение – это мгновенное притупление боли, за которым следует пресыщение, а за пресыщением – новое, еще более острое желание, и снова, снова страдание. Круговорот. Ад без огня, с вечной, грызущей жаждой.
Он видел это на каждом лице, отпечаток этой боли, даже если она была скрыта за натянутой улыбкой, за маской усталости, за показным безразличием. Ребенок плачет, потому что хочет игрушку. Взрослый страдает, потому что хочет власти, или любви, или денег, или здоровья – все это разные, бесконечные формы проявления воли, которая использует нас, сминает нас, для своего собственного, лишенного цели движения. И чем осознаннее существо, тем глубже, тем острее его страдание, потому что оно понимает эту бессмысленность, эту ловушку, но не может, не может вырваться. Знание – это не свобода, это более глубокая тюрьма.
Иногда он выходил – редкие, мучительные вылазки за продуктами, за таблетками, которые притупляли боль, но не стирали знание. Толпа давила, не просто физически, но душевным весом, шумы города резали слух, как битое стекло, запахи – выхлопные газы, приторная сладость дешевого парфюма, жирный смрад еды из ларьков – казались запахом разложения, запахом тщеты. Он видел, как люди толкались, обманывали друг друга по мелочам, их глаза скользили по витринам, жадно, ненасытно выискивая новые объекты своего рабства. Видел бездомного, чья судьба была наиболее откровенным, неприкрытым, воющим на весь мир проявлением всеобщего страдания. Видел мать, кричащую на ребенка – два маленьких, сталкивающихся эго внутри одной большой, безразличной машины.
Каждый такой выход был не просто прогулкой, а погружением, и каждый раз он возвращался, чувствуя усталость, которая не была усталостью тела, но усталостью души, познавшей слишком много. Окна снова становились границей, спасительным барьером, мутным, но надежным. Он садился в кресло, Атман устраивался рядом, и время снова замедлялось, превращаясь в эту тягучую, однородную субстанцию, где ничего не происходило, потому что все уже произошло, повторяясь вечно.
Его взгляд часто останавливался на подушке на кровати. Под ней – вес, знание. Пистолет. Не как угроза миру, нет, мир был слишком велик, слишком безразличен для угроз. Но как обещание себе, обещание освобождения от мира, от его слепой, ненасытной власти, от бремени собственного сознания, которое так ясно, так мучительно видело эту бессмысленность. Это был его последний аргумент, его суверенное право в мире, где все остальное было принуждением воли.
Так проходили дни, медленно перетекая в недели, недели – в месяцы, серый, непрерывный поток, прерываемый равнодушной сменой времен года за окном и редкими, подтверждающими его правоту вылазками в мир, который не менялся, повторялся, снова и снова разыгрывал ту же вечную драму желания и страдания. Он был наблюдателем, философом на краю пропасти, чье единственное занятие – созерцать падение других и ждать своего часа. И в этой стагнации, в этом добровольном заточении, в этом отказе от мира, он чувствовал себя парадоксально свободнее, чем те, кто суетился внизу, убежденные в важности своих целей, не зная, что эти цели – приманка, ведущая к неизбежному страданию. Он знал. И это знание было его крестом и его единственной, тяжелой ценностью.
В этот момент его жизни не было места для надежды – надежда была еще одной уловкой. Не было места для перемен – перемены были новым витком того же бессмысленного круговорота. Была констатация и ожидание.
Именно в этот застойный, предопределенный, казалось бы, застывший поток его существования и должно было ворваться нечто… или кто-то. То, что нарушит привычный, выстраданный ход вещей и заставит его, пусть и ненадолго, вновь столкнуться, вновь взаимодействовать с той самой Волей, от которой он так тщательно, так мучительно отгородился.
III
Утро было не лучше и не хуже любого другого – серое, влажное, дышащее усталостью города. Атман трусил рядом, его единственное, молчаливое одобрение или, скорее, простое принятие его присутствия. Он шел медленно, каждый шаг казался преодолением, взгляд скользил по тротуару, избегая глаз прохожих, этих окон в души, где он видел ту же вечную, грызущую жажду.
И тут она появилась. Не как внезапное явление, а как… трещина. В серой стене дня, в плотной ткани его отрешенности. Она стояла у входа в маленький магазинчик, куда он направлялся, молодая, с волосами цвета осенней листвы, собранными небрежно, но изящно, с глазами, которые не скользили по витринам с жадностью, но смотрели куда-то с сосредоточенной, удивленной внимательностью. И когда Атман, нарушив свою обычную сдержанность, тихонько заскулил и потянул поводок в ее сторону – пес, чья интуиция всегда казалась чище, чем человеческая, – она заметила их.
Ее улыбка не была той натянутой, вымученной гримасой, которую он видел на лицах спешащих людей. Она была… легкой. Искренней. И когда ее взгляд остановился на нем, в нем не было ни осуждения, ни любопытства, граничащего с грубостью, ни той слепой, равнодушной спешки. Был… интерес. Чистый, неискаженный интерес, лишенный примеси желания или страха.
– Какой красивый пес, – голос был низким, мелодичным, лишенным той резкости, что резала ему слух в городе. Она присела на корточки, не обращая внимания на влажный асфальт, и протянула руку к Атману, который, что было совершенно немыслимо, позволил ей себя погладить, тихонько повиливая хвостом.
Он стоял, ощущая себя нелепым, неуклюжим, как старое дерево, потревоженное легким ветром. Его привычная броня дала трещину. – Да, – только и смог вымолвить он, слово вышло хриплым, неиспользованным.
Она подняла голову, ее глаза – цвета летнего неба после грозы, глубокие и ясные – смотрели прямо на него. – Он кажется очень мудрым, – сказала она, и это не звучало как пустая любезность. Она говорила серьезно, с той же сосредоточенностью, с какой до этого смотрела куда-то вдаль. – Как и вы, – добавила она, и в этом не было ни лести, ни насмешки, только констатация, которая заставила его внутренности сжаться от непривычности.
– Мудрость, – повторил он, и на этот раз слово обрело свой привычный, горький привкус. – Это знание о том, как глубоко мы погрязли в бессмысленности.
Она не отшатнулась, не поспешила уйти, как сделали бы другие, услышав подобное. Вместо этого, она встала, отряхнула руки и сделала небольшой шаг в его сторону, как будто приближаясь к чему-то, что требует внимания. – Вы так думаете? – спросила она, и в ее голосе не было вызова, только искреннее любопытство. – Я… я пишу работу о философии пессимизма. И мне кажется, я вижу в вас… кого-то, кто знает. Не просто читает книги, а живет этим знанием.
Она была студенткой. Это объясняло ее любопытство, но не объясняло эту глубину внимания, эту готовность слушать, которая была так разительно отлична от всего, что он видел в мире, где каждый был слишком занят своей собственной, ненасытной Волей, чтобы услышать кого-то другого.
– Живу, – усмехнулся он, и усмешка была сухой, как осенний лист. – Или существую. Это более точное слово. Существую в этом знании, как в тюрьме без стен.
Она кивнула, и это кивок не был знаком согласия, а знаком понимания, знаком того, что она следует за его мыслью, даже если она ей незнакома. – Могу я… могу я задать вам несколько вопросов? Не сейчас, конечно. Но, возможно… когда-нибудь? Ее взгляд был прямым, открытым, лишенным всякой фальши.
Он смотрел на нее – на ее молодость, на ее красоту, которая казалась чистой, нетронутой еще той грязью, тем страданием, которое судьба неизбежно обрушит на нее, как обрушивала на всех. Она была полна той самой жизненной энергии, того самого стремления, от которого он бежал, но в ней оно проявлялось не как слепая, эгоистичная жажда, а как… свет. Как любопытство, как тяга к пониманию, как готовность протянуть руку, даже такому старому, колючему, отгородившемуся существу, как он. Она была противоположностью Элеоноры/Элизабет – той, чье присутствие было еще одной формой требования, еще одним проявлением эгоизма, стремящейся поглотить, использовать, а затем отбросить. Это же… Ева – так она назвала себя, представившись коротко, но ясно, – она не требовала. Она просила. Просила дать ей услышать, просила поделиться.
– Когда-нибудь, – повторил он, и в его голосе уже не было той абсолютной, герметичной отрешенности. Впервые за долгое время, он произнес слово, которое содержало в себе… будущее. Неизвестное, нежеланное, но все же будущее. – Возможно. Когда-нибудь.
Он не знал, почему сказал это. Возможно, это был Атман, чье тихое мурлыканье под ее рукой казалось одобрением. Возможно, это была усталость от абсолютного одиночества, от вечного разговора с самим собой и с призраками философов. А возможно, это было просто… любопытство. Странное, непривычное чувство, проклюнувшееся в его окаменевшей душе. Любопытство к этой трещине, к этому свету, который появился в его сером, предопределенном мире.
Он купил кофе и таблетки, ощущая их вес в пакете как что-то чужое, незначительное по сравнению с весом этой встречи, этого короткого, странного взаимодействия. Ева ушла, поблагодарив его с той же легкой, искренней улыбкой, пообещав, что, если он не против, она попробует найти его, оставив свое имя и номер телефона, написанные на клочке бумаги, который он машинально взял, ощущая его тонкость, его хрупкость, как что-то, что легко может порваться, исчезнуть.
Он вернулся в свою квартиру, в свое убежище, но стекло окна теперь казалось другим. Муть осталась, но за ней, или сквозь нее, пробивался тонкий, непривычный луч. Круговорот продолжался, да. Воля все еще правила миром. Страдание было неизбежно. Пистолет все еще лежал под подушкой, обещание конца. Но теперь… теперь в этой плотной, вязкой ткани его существования появилась трещина. И он не знал, что эта трещина принесет – больше боли? Новую иллюзию? Или… что-то иное? Что-то, что его философия не могла ни объяснить, ни предсказать. И это незнание, это крошечное пространство неопределенности в его абсолютно определенном мире, было, пожалуй, самым тревожным и странным чувством, которое он испытывал за очень, очень долгое время.
IV
Утро пришло снова, не иначе как по расписанию, высеченному где-то в камне мироздания, в этой слепой, безразличной предопределенности. Оно несло с собой тот же серый свет, ту же вязкую тишину, нарушаемую дыханием Атмана, который лежал у кровати, его присутствие – единственная константа в этом мире переменчивых, ускользающих форм страдания. Ритуал начался, как всегда, неумолимо, каждый шаг – тяжелое, привычное усилие. Холод плитки на кухне – знакомый укор. Свист чайника – тонкий, пронзительный стон. Кофе – темный, горький, необходимый, как воздух, как забвение, как краткая, жалкая передышка.
Но что-то было не так. Не в мире, конечно. Мир оставался тем же – ареной бесконечной, бессмысленной борьбы, проявлением слепой, ненасытной энергии. Не в нем самом – он все так же носил в себе тяжесть знания, бремя видения той пустоты, что скрывалась за нарядными фасадами иллюзий. Не так было в потоке. В том мутном, медленном течении мыслей, что обычно заполняло его сознание, перемалывая одни и те же горькие истины, одни и те же воспоминания о прошлом, которое было иной формой настоящего страдания, одни и те же предчувствия будущего, которое будет лишь повторением.
Этот поток был нарушен. В него вклинилось чужое. Чужое и одновременно… странно свое. Образ. Голос. Имя. Ева.
Он стоял у окна, держа в руках чашку с горячим, пахнущим кофе, но взгляд его не скользил по марионеткам внизу, по этим фигуркам, гонимым своими призраками. Его взгляд был направлен внутрь, на то, что происходило там, где привычная крепость одиночества дала трещину. Она была там. Не как воспоминание, которое можно отложить или проанализировать. А как… присутствие. Как тонкая, но упрямая нить, намотавшаяся на колесо его мыслей, мешающая ему вращаться в привычном, удручающем ритме.
Ее улыбка – легкая, не вымученная, не натянутая, не скрывающая жадность или страх, а просто существующая – казалась чем-то невозможным в этом мире. Ее глаза – ясные, смотрящие не сквозь, а на него, с интересом, лишенным требования. Ее голос – низкий, мелодичный, лишенный резкости, лишенный напора настойчивости. И ее слова: «Как и вы,» – сказанные так просто, так серьезно, как будто она видела не старого, сломленного человека, отгородившегося от мира, а… что? Знание? Ту самую тяжесть, которую он нес? Но почему она не отшатнулась от нее, как делали все другие? Почему она подошла ближе, а не отдалилась?
«Я пишу работу о философии пессимизма…»
«Вижу в вас… кого-то, кто знает…»
«Могу я задать вам несколько вопросов?»
Вопросы. Не требования. Не мольбы. Вопросы. Просьба о понимании. Это было так чуждо, так неправильно в мире, где все хотели, брали, потребляли.
И клочок бумаги. Он лежал на прикроватной тумбочке. Он не помнил, как положил его туда. Возможно, просто выронил, вернувшись из того короткого, мучительного путешествия во внешний мир. Он закончил пить кофе, поставил чашку на стол с привычной, нарочитой осторожностью – еще один маленький, бессмысленный ритуал порядка в хаосе существования. И ноги сами понесли его в спальню, к тумбочке.
Там он лежал. Маленький, белый прямоугольник, тонкий, невесомый, но казавшийся тяжелее свинца. На нем – аккуратный, женский почерк. Имя. Ева. И ряд цифр. Число.
Он поднял его. Бумага была прохладной на ощупь, хрупкой, как обещание, как надежда, как любая из тех иллюзий, что судьба подкидывает своим жертвам. Пальцы ощущали легкую шероховатость поверхности. Чернила казались слишком черными, слишком реальными. Ева. Число. Связь. Потенциальная связь с тем, что пробило трещину в его стене.
Позвонить. Или не позвонить.
Мысль не была новой. Она крутилась где-то на периферии сознания с того момента, как он вернулся, осел в своем убежище, пытаясь стряхнуть с себя пыль мира, но обнаружив, что она въелась глубже, чем обычно. Теперь мысль вышла на передний план, четкая, требовательная.
Позвонить. Что это будет означать? Сдаться? Открыть дверь? Впустить в свой тщательно выстроенный, пусть и мрачный, но стабильный мир нечто хаотичное, непредсказуемое? Это будет признанием того, что его система не герметична, что есть внешние силы, способные на нее повлиять. Это будет шагом навстречу миру, от которого он так долго и так упорно бежал. Шагом к новой форме страдания. Потому что любая связь – это страдание. Желание быть понятым – страдание. Разочарование – страдание. Потеря – величайшее страдание. И даже если она – та самая аномалия, тот самый редкий, чистый свет, о котором говорили мистики, – даже тогда, ее свет лишь ярче оттенит окружающую тьму, и его собственную, внутреннюю. А потом свет неизбежно погаснет, потому что ничто чистое и светлое не может долго существовать в мире, управляемом слепой Волей.
Не позвонить. Оставить все как есть. Заткнуть трещину. Вернуться в привычный, предсказуемый ад одиночества и знания. Это было бы логично. Это было бы правильно с точки зрения его философии. Это было бы безопасно. Безопасно в той мере, в какой вообще возможно быть безопасным в этом мире, где само существование – это риск. Это было бы возвращением к статусу-кво, к той тяжелой, но привычной ноше, которую он нес годами. Отказаться от возможности – какой бы призрачной, какой бы опасной она ни была – было бы проявлением силы, силы отрицания, силы отрешенности, силы, которая позволяла ему выживать в этом море бессмысленности.



