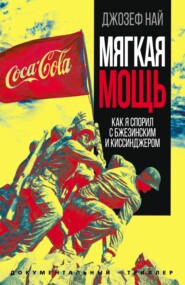
Полная версия:
Мягкая мощь. Как я спорил с Бжезинским и Киссинджером
Сегодня Ирак и Иран недолюбливают США, и можно было бы ожидать, что они будут работать вместе, чтобы уравновесить американскую мощь в Персидском заливе, но еще больше они беспокоятся друг о друге. Национализм также может осложнять прогнозы. Например, если Северная и Южная Корея воссоединятся, то у них должен быть сильный стимул поддерживать союз с такой далекой державой, как США, чтобы уравновесить двух своих соседей-гигантов – Китай и Японию. Однако напряженный национализм, вызванный противодействием американскому присутствию, может изменить ситуацию, если американская дипломатия будет жесткой. Негосударственные субъекты также могут оказывать влияние, о чем свидетельствует то, как сотрудничество против террористов изменило поведение некоторых государств после сентября 2001 года.
Можно привести убедительные аргументы в пользу того, что неравенство сил может быть источником мира и стабильности. Независимо от того, как измеряется власть, считают некоторые теоретики, равное распределение власти между крупными государствами в истории встречалось сравнительно редко, а попытки сохранить баланс часто приводили к войне. С другой стороны, неравенство сил часто приводило к миру и стабильности, поскольку не было смысла объявлять войну доминирующему государству. Политолог Роберт Гилпин утверждает, что «Pax Britannica и Pax Americana, как и Pax Romana, обеспечивали международную систему относительного мира и безопасности». А экономист Чарльз Киндл-бергер утверждал, что «для стабилизации мировой экономики должен быть стабилизатор, один стабилизатор». Глобальное управление требует, чтобы крупное государство играло ведущую роль. Но насколько и какое неравенство сил необходимо или допустимо и как долго? Если страна-лидер обладает «мягкой силой» и ведет себя так, что это выгодно другим, то эффективные контркоалиции могут возникать медленно. С другой стороны, если страна-лидер определяет свои интересы узко и высокомерно использует свой вес, то это создает стимулы для других координировать свои действия, чтобы избежать ее гегемонии.
Некоторые страны больше других страдают от американской мощи. Гегемония иногда используется политическими лидерами России, Китая, Ближнего Востока, Франции и других стран как термин, вызывающий осуждение. В странах, где сильна американская «мягкая сила», этот термин используется реже или менее негативно.
Если, как утверждает Джошуа Голдстайн, гегемония означает возможность диктовать правила и механизмы, по которым осуществляются международные отношения, то Соединенные Штаты сегодня вряд ли можно назвать гегемоном. Они действительно имеют преимущественное право голоса в Международном валютном фонде, но не могут самостоятельно выбирать его руководителя. Во Всемирной торговой организации США не смогли одержать верх над Европой и Японией. Она выступала против Договора о противопехотных минах, но не смогла предотвратить его появление. Саддам Хусейн оставался у власти более десяти лет, несмотря на американские усилия по его изгнанию. США выступали против войны России в Чечне и гражданской войны в Колумбии, но безрезультатно. Если определить гегемонию более скромно – как ситуацию, когда одна страна обладает значительно большими силовыми ресурсами или возможностями, чем другие, то она означает просто американский перевес, а не обязательно доминирование или контроль. Даже после Второй мировой войны, когда США контролировали половину мирового экологического производства (поскольку все остальные страны были разрушены войной), они не смогли одержать победу во всех своих целях.
В качестве примера успешной гегемонии часто приводят Pax Britannica в XIX веке, хотя по уровню ВНП Великобритания уступала США и России. Британия никогда не превосходила остальной мир по производительности труда, как Соединенные Штаты после 1945 г., но, как мы увидим в главе 5, Британия обладала и определенной степенью «мягкой силы». Культура викторианской эпохи была влиятельна во всем мире, а репутация Британии росла, когда она определяла свои интересы таким образом, что это приносило пользу другим странам (например, открывала свои рынки для импорта или искореняла пиратство). Америка не имеет такой глобальной территориальной империи, как Британия, но зато обладает крупной внутренней экономикой континентального масштаба и обладает большей «мягкой силой». Эти различия между Британией и Америкой позволяют говорить о большей устойчивости американской гегемонии. Политолог Уильям Уолфорт утверждает, что Соединенные Штаты настолько далеко ушли вперед, что потенциальные соперники считают опасным вызывать целенаправленную враждебность Америки, а союзные государства могут быть уверены в том, что они и дальше могут рассчитывать на американскую защиту. Таким образом, обычные балансирующие силы ослаблены.
Тем не менее, если американская дипломатия будет односторонней и высокомерной, наше превосходство не помешает другим государствам и негосударственным субъектам предпринимать действия, которые усложнят американские расчеты и ограничат нашу свободу действий.
Например, некоторые союзники могут следовать за американцами по крупнейшим вопросам безопасности, но при этом создавать коалиции, чтобы сбалансировать поведение США в других областях, таких как торговля или охрана окружающей среды. Дипломатическое маневрирование, не связанное с союзничеством, может иметь политические последствия. Как заметил Уильям Сафир во время первой встречи президентов Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего, «прекрасно понимая слабость своей руки, Путин подражает стратегии Никсона, разыгрывая китайскую карту». В частности, незадолго до встречи с Бушем Путин отправился в Шанхай, чтобы создать полусоюз регионального сотрудничества с Цзян Цзэминем и некоторыми из его азиатских попутчиков». Тактика Путина, по словам одного журналиста, «поставила господина Буша в положение обороняющегося, и господин Буш не преминул заявить, что Америка не собирается действовать в одиночку в международных делах».
Pax Americana, вероятно, продлится не только благодаря непревзойденной американской жесткой силе, но и в той мере, в какой Соединенные Штаты «обладают уникальной способностью проявлять «стратегическую сдержанность», успокаивая партнеров и способствуя сотрудничеству». Более того, влияние американского превосходства смягчается, если оно опирается на сеть многосторонних институтов, позволяющих другим странам участвовать в принятии решений и выступающих в качестве своего рода мировой конституции, ограничивающей капризность американской власти. Именно этот урок мы получили, пытаясь создать антитеррористическую коалицию после терактов в сентябре 2001 года. Когда общество и культура гегемона привлекательны, ощущение угрозы и необходимость уравновешивать его снижаются. Будут ли другие страны объединяться для уравновешивания американской мощи, зависит от поведения США, а также от силовых ресурсов потенциальных соперников.
Новые претенденты?Периоды неравенства сил могут приводить к стабильности, но если растущие страны будут недовольны политикой, проводимой крупнейшим государством, они могут бросить вызов ведущему государству и создать союзы, чтобы преодолеть его силу. Итак, кто же является потенциальными кандидатами, которые могут бросить вызов Соединенным Штатам, и насколько велика их угроза?
КитайМногие считают Китай, самую густонаселенную страну мира, ведущим кандидатом. «Почти все комментаторы уже несколько лет рассматривают Китай как наиболее вероятного из обычных подозреваемых в получении статуса «равного конкурента» в будущем». Опросы показывают, что половина американской общественности считает Китай самым серьезным вызовом статусу мировой державы США в ближайшие сто лет (по сравнению с 8 % для Японии и 6 % для России и Европы). Некоторые наблюдатели сравнивают рост авторитарного Китая с ростом кайзеровской Германии в период, предшествовавший Первой мировой войне. Так, китаевед Артур Уолдрон считает, что «рано или поздно, если нынешние тенденции сохранятся, война в Азии будет вероятна… Китай сегодня активно стремится отпугнуть США от Восточной Азии, подобно тому как Германия стремилась запугать Британию перед Первой мировой войной». Аналогичным образом, по мнению обозревателя Роберта Кагана, «китайское руководство смотрит на мир примерно так же, как кайзер Вильгельм II столетие назад. Китайские лидеры недовольны тем, что на них накладывают ограничения, и беспокоятся, что они должны изменить правила международной системы до того, как международная система изменит их самих». Китайские лидеры часто жаловались на «канонерскую дипломатию» США и предлагали России, Франции и другим странам присоединиться к ним в сопротивлении американскому «гегемонизму».»Более того, «в правительственных заявлениях, статьях в государственной прессе, книгах и интервью Соединенные Штаты теперь регулярно изображаются как враг № 1». По словам двух трезвомыслящих аналитиков, «вряд ли можно считать неизбежным, что Китай будет представлять угрозу американским интересам, но вероятность того, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем, гораздо выше, чем с любой другой крупной державой».
Однако мы должны скептически относиться к выводам, сделанным исключительно на основе текущей риторики, военных планов на случай непредвиденных обстоятельств и не совсем корректных исторических аналогий. Как в Китае, так и в США восприятие другой страны в значительной степени обусловлено внутриполитическими проблемами, и в обеих странах есть люди, которые хотят видеть в другой стране врага. Даже если бы не было таких искажений, военные обеих сторон воспринимались бы своими соотечественниками как недобросовестные исполнители своих обязанностей, если бы они не планировали все возможные варианты развития событий. Что касается истории, то следует еще раз напомнить, что к 1900 году Германия превзошла Великобританию по уровню промышленного развития.
Кайзер проводил авантюрную, глобально ориентированную внешнюю политику, которая неизбежно должна была привести к столкновению с другими великими державами.
Китай, напротив, значительно отстает от США в экономическом плане и ориентируется в своей политике прежде всего на свой регион и на свое экономическое развитие; его официальная коммунистическая идеология мало привлекательна. Тем не менее, возвышение Китая напоминает предупреждение Фукидида о том, что вера в неизбежность конфликта может стать одной из его главных причин. Каждая сторона, полагая, что окажется в состоянии войны с другой, проводит разумные военные приготовления, которые затем воспринимаются другой стороной как подтверждение ее худших опасений.
На самом деле «возвышение Китая» – это неправильный термин. Более точным было бы «возрождение», поскольку по размерам и истории Поднебесная давно уже является крупной державой в Восточной Азии. В техническом и экономическом отношении Китай был мировым лидером (хотя и без глобального охвата) с 500 по 1500 гг. Лишь в последние полтысячелетия его обогнали Европа и Америка. По расчетам Азиатского банка развития, в 1820 г., в начале индустриальной эпохи, на долю Азии приходилось примерно три пятых мирового продукта. К 1940 г. этот показатель снизился до одной пятой, хотя в регионе проживало три пятых населения планеты. Быстрый экономический рост привел к тому, что сегодня этот показатель составляет две пятых, и, по прогнозам банка, к 2025 г. Азия может вернуться к своему торическому уровню. В Азию, конечно, входят Япония, Индия, Корея и другие страны, но наибольшую роль в конечном итоге будет играть Китай. Высокие ежегодные темпы роста в 8–9 % привели к тому, что за последние два десятилетия ХХ века его ВНП вырос в три раза. Эти впечатляющие экономические показатели, наряду с конфуцианской культурой, укрепили «мягкую силу» Китая в регионе.
Тем не менее, Китаю предстоит пройти долгий путь и столкнуться со многими препятствиями на пути своего развития. В начале XXI века американская экономика примерно в два раза превышает китайскую. Если темпы роста американской экономики составят 2 %, а китайской – 6 %, то примерно к 2020 году эти две экономики сравняются по размеру. Но даже в этом случае обе экономики будут эквивалентны по размеру, но не по составу. Китай по-прежнему будет иметь огромную неразвитую территорию – действительно, если предположить, что китайская экономика будет расти на 6 %, а американская – только на 2 %, то Китай не сравняется с США по объему производства.
С точки зрения политической власти доход на душу населения является более точным показателем развитости экономики. По прогнозам Азиатского банка развития, к 2025 г. доход на душу населения в Китае достигнет 38 % от дохода в США, т. е. примерно того же уровня по отношению к США, которого Южная Корея достигла в 1990 г. Это впечатляющий рост, но до равенства еще очень далеко. И поскольку Соединенные Штаты вряд ли будут стоять на месте в этот период, Китай еще очень далек от того, чтобы бросить такой вызов американскому превосходству, какой бросила кайзеровская Германия, обойдя Великобританию в начале прошлого века.
Более того, линейные прогнозы тенденций экономического роста могут вводить в заблуждение. На ранних этапах экономического взлета страны, как правило, выбирают «низко висящие плоды», получая выгоду от импорта технологий, а по мере достижения более высоких уровней развития темпы роста обычно замедляются. Кроме того, китайская экономика сталкивается с серьезными препятствиями переходного периода, связанными с неэффективностью государственных предприятий, шаткостью финансовой системы и неадекватностью инфраструктуры. Растущее неравенство, массовая внутренняя миграция, неадекватная система социальной защиты, коррупция и неадекватные институты могут привести к политической нестабильности. Острую дилемму для китайских руководителей представляет решение проблемы значительно возросших информационных потоков в условиях, когда ограничения могут препятствовать экономическому росту. Как отмечает гарвардский экономист Дуайт Перкинс, «во многом успех первых рыночных реформ… был обусловлен простотой задачи». Процесс создания правового государства и адекватных институтов в экономической сфере будет «измеряться десятилетиями, а не годами или месяцами». Действительно, некоторые наблюдатели опасаются нестабильности, вызванной не подъемом, а распадом Китая. Китай, который не может контролировать рост населения, потоки миграции, влияние на мировой климат и внутренние конфликты, создает еще один комплекс проблем. Политика способна сбивать экономические прогнозы.
Пока экономика Китая растет, вероятно, будет увеличиваться и его военная мощь, что сделает Китай более опасным для соседей и усложнит обязательства Америки в регионе. Согласно исследованию RAND, к 2015 г. военные расходы Китая будут более чем в шесть раз превышать японские, а накопленная им военная мощь была огромна.
Война в Персидском заливе 1991 г., напряженность вокруг Тайваня в 1995-96 гг. и косовская кампания 1999 г. показали китайским лидерам, насколько Китай отстает в современном военном потенциале, в результате чего в течение 1990-х гг. они почти удвоили военные расходы. Тем не менее, общий военный бюджет Китая за последние десятилетия ХХ века фактически сократился с 2,5 до 2 % ВВП, а слабость политической системы страны не позволяет эффективно конвертировать экономические ресурсы в военный потенциал. Некоторые наблюдатели считают, что к 2005 году Китай может достичь военного потенциала, аналогичного европейскому в начале 1980-х годов. Другие, ссылаясь на импорт технологий из России, высказывают более серьезные опасения. В любом случае, рост военного потенциала Китая будет означать, что любая американская военная роль в регионе потребует дополнительных ресурсов.

Американские солдаты в Афганистане
Какова бы ни была точность таких оценок роста военного потенциала Китая, наиболее полезным для наших целей является сравнительная оценка, а она зависит от того, что будут делать США (и другие страны) в ближайшие десятилетия. Ключ к военной мощи в информационную эпоху зависит от способности собирать, обрабатывать, дезинтегрировать и интегрировать данные, поступающие от сложных систем космического наблюдения, высокоскоростных компьютеров и «умного» оружия. Китай (и другие страны) будет развивать некоторые из этих возможностей, но, по мнению австралийского аналитика Пола Дибба и его коллег, революция в военном деле (RMA) «будет по-прежнему благоприятствовать преобладанию американских вооруженных сил». Маловероятно, что Китай каким-либо значимым образом сократит разрыв в RMA с США».
Роберт Каган считает, что Китай стремится «в ближайшей перспективе заменить США в качестве доминирующей державы в Восточной Азии, а в долгосрочной перспективе бросить вызов положению Америки как доминирующей державы в мире». Даже если это точная оценка намерений Китая (а с этим эксперты спорят), сомнительно, что у него будут для этого возможности. У каждой страны есть список желаний, который выглядит как меню без цен. Если бы Китай был предоставлен самому себе, он, возможно, хотел бы вернуть Тайвань, доминировать в Южно-Китайском море и быть признанным главным государством в Восточно-Азиатском регионе, но китайским лидерам придется столкнуться с ценами, навязанными другими странами, а также с ограничениями.
Более того, слишком агрессивная позиция Китая может привести к созданию противодействующей коалиции среди его соседей по региону, что ослабит как его «жесткую», так и «мягкую» силу.
Тот факт, что Китай вряд ли станет равноправным конкурентом США на глобальном уровне, не означает, что он не может бросить вызов Соединенным Штатам в Восточной Азии или что война за Тайвань невозможна. Слабые страны иногда нападают, когда чувствуют себя загнанными в угол, как это сделала Япония в Перл-Харборе или Китай, вступивший в Корейскую войну в 1950 году. «При определенных условиях Пекин, скорее всего, будет полностью неудержим. Если, например, Тайвань провозгласит независимость, трудно представить, что Китай откажется от применения силы против Тайваня, независимо от предполагаемых экологических или военных издержек, вероятной продолжительности или интенсивности американского вмешательства или баланса сил в регионе». Но выиграть такую войну вряд ли удастся.
Альянс США и Японии, который декларация Клинтона-Хасимото 1996 г. подтвердила как основу стабильности в Восточной Азии после окончания холодной войны, является важным препятствием для китайских амбиций. Это означает, что в трехсторонней политике региона Китай не может играть против Японии или пытаться вытеснить американцев из региона. С этой сильной позиции США и Япония могут работать над привлечением Китая к сотрудничеству по мере роста его мощи и стимулировать его к ответственной роли. Вопрос о том, как поведет себя Китай по мере роста своей мощи, остается открытым, но до тех пор, пока США сохраняют свое присутствие в регионе, поддерживают отношения с Японией, не поддерживают независимость Тайваня и разумно распоряжаются своей мощью, вряд ли какая-либо страна или коалиция сможет успешно оспорить его роль в регионе, тем более на глобальном уровне. Если США и Китай столкнутся с войной или холодной войной в Восточной Азии, то причиной этого, скорее всего, будет неумелая политика, связанная с независимостью Тайваня, а не успех Китая как глобального претендента.
ЯпонияВ последнее время экономика Японии переживает спад из-за неудачных политических решений, однако было бы ошибкой продавать Японию с рук. Она обладает второй по величине национальной экономикой в мире, высокотехнологичной промышленностью, самым большим после США числом пользователей Интернета и самыми современными вооруженными силами в Азии. В то время как Китай имеет более современное вооружение и большее количество военнослужащих, вооруженные силы Японии лучше оснащены и лучше обучены. Кроме того, она обладает технологическим потенциалом, позволяющим ей быстро создать ядерное оружие, если она решит это сделать.
Еще десять лет назад американцы опасались, что их догонит Япония. В статье, опубликованной в журнале Newsweek в 1989 году, было сказано следующее: «В залах заседаний и правительственных бюро по всему миру с тревогой спрашивают, не собирается ли Япония стать сверхдержавой, вытеснив Америку с позиции колосса Тихоокеанского региона и, возможно, даже став государством № 1 в мире». В книгах предсказывается создание Тихоокеанского блока под руководством Японии, в который не войдут США, и даже возможная война между Японией и США. Футуролог Герман Кан предсказывал, что Япония станет ядерной сверхдержавой и что переход роли Японии будет подобен «изменениям, которые произошли в европейских и мировых делах в 1870-х годах в результате возвышения Пруссии». Эти взгляды экстраполировались на впечатляющий послужной список Японии.
Накануне Второй мировой войны на Японию приходилось 5 % мирового промышленного производства. Разрушенная войной, она восстановила этот уровень только в 1964 году. С 1950 по 1974 г. Япония демонстрировала поразительные темпы роста в 10 % в год, а к 1980-м годам стала второй по величине экономикой мира, на которую приходилось 15 % мирового продукта. Она стала крупнейшим кредитором и крупнейшим донором иностранной помощи. По уровню технологий она была примерно равна США, а в некоторых областях производства даже немного опережала их. Япония слабо вооружалась (военные расходы составляли около 1 % ВНП) и сделала ставку на экономический рост, что стало весьма успешной стратегией. Тем не менее, как уже говорилось выше, она создала самые современные и лучше всего оснащенные обычные вооруженные силы в Восточной Азии.
Япония имеет впечатляющий исторический опыт самоизобретения. Полтора столетия назад Япония стала первой незападной страной, успешно адаптировавшейся к современной глобализации. После многовековой изоляции Япония в результате реставрации Мэйдзи выборочно выбрала остальной мир, и уже через полвека страна стала достаточно сильной, чтобы победить европейскую великую державу в русско-японской войне. После 1945 года она восстала из пепла Второй мировой войны.
Учитывая слабость политического процесса, необходимость дальнейшего дерегулирования, старение населения и сопротивление иммиграции, такие перемены будут нелегкими и могут занять не одно десятилетие. Однако, учитывая неизменную квалификацию японцев, стабильность общества, технологическое лидерство (например, в области мобильных Интернет-приложений) и производственные навыки, нынешние оценки Японии могут быть слишком депрессивными.
Сможет ли возрожденная Япония через десяток-другой лет стать глобальным соперником США в экономическом или военном плане, как это предсказывалось десять лет назад? Это представляется маловероятным. Япония, размером примерно с Калифорнию, никогда не будет иметь таких географических или демографических масштабов, как Соединенные Штаты. Ее экономические успехи и популярная культура обеспечивают ей «мягкую силу», но этноцентризм и политика страны подрывают эту силу. Япония проявляет определенные амбиции по укреплению своего статуса мировой державы. Она стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, а опросы показывают, что многие молодые японцы заинтересованы в том, чтобы стать более «нормальной страной» с точки зрения обороны. Некоторые политики начали движение за пересмотр 9-й статьи конституции страны, ограничивающей вооруженные силы Японии самообороной. Если Соединенные Штаты откажутся от союза с Японией и последуют совету тех, кто хочет, чтобы мы оставались «в офшоре» и меняли свою лояльность туда-сюда, чтобы уравновесить Китай и Японию, мы можем породить чувство незащищенности, которое может привести Японию к решению о необходимости создания собственного ядерного потенциала.
В противном случае, если Япония вступит в союз с Китаем, то совокупность ресурсов этих двух стран создаст мощную коалицию. Хотя такой союз не исключен, он представляется маловероятным, если только США не совершат серьезную дипломатическую или военную ошибку. Мало того, что раны 1930-х гг. не зажили до конца, так еще и Китай и Япония имеют противоречивые представления о месте Японии в Азии и в мире. Китай хотел бы сдерживать Японию, но Япония, возможно, не захочет играть вторую скрипку. В случае маловероятного ухода США из региона Восточной Азии Япония может присоединиться к китайскому бандпарку.
Наиболее вероятным исходом является продолжение союза с Соединенными Штатами. Союзная Восточная Азия не является вероятным претендентом на роль претендента, который вытеснит США.
РоссияЕсли Япония является маловероятным союзником для Китая, то как насчет России? Политика баланса сил может предсказать такой союз как ответ на подтверждение в 1996 г. американо-японского договора о безопасности. Прецедент для такого союза существует: в 1950-х годах Китай и Советский Союз были союзниками против США. После того как в 1972 г. Никсон открыл Китаю двери, треугольник стал работать в обратном направлении: США и Китай сотрудничали, чтобы ограничить угрожающую, по мнению обоих, советскую мощь. Этот союз прекратил свое существование с распадом Советского Союза. В 1992 г. Россия и Китай провозгласили свои отношения «конструктивным партнерством», в 1996 г. – «стратегическим партнерством», а в июле 2001 г. подписали договор о «дружбе и сотрудничестве». Одной из тем партнерства является общее неприятие нынешнего «однополярного мира», в котором доминируют США. Китай и Россия поддержали антитеррористическую кампанию, начатую Америкой после сентябрьских событий, но по-прежнему с опаской относятся к американской мощи.

