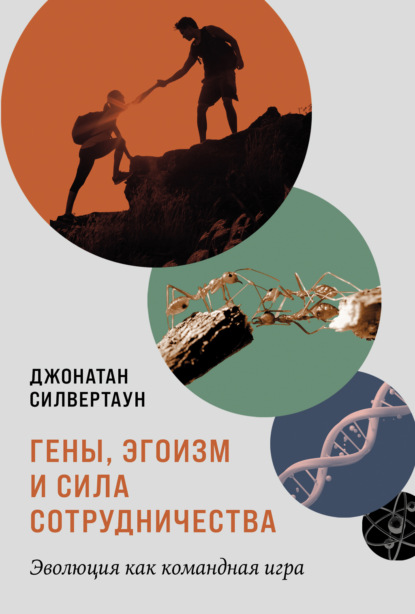
Полная версия:
Гены, эгоизм и сила сотрудничества: Эволюция как командная игра
Признаки стратегии «око за око» можно углядеть во взаимодействии между двумя сторонами окопной войны. Солдаты часто предлагали противнику сотрудничество: обе стороны шли на него, когда могли, но каждая отвечала ударом на удар. Таким образом, даже в самом кровавом конфликте современности сотрудничество на линии фронта нередко оказывалось возможным. Почему же оно не вылилось в мир? Все просто: ему мешали командиры. Они были уверены, что смогут победить, и не считались с жертвами. Как в том стихотворении Зигфрида Сассуна[19]:
«С добрым утром, ребята!» – сказал генерал,
Когда наш батальон к Аррасу шагал.Мало кто уцелел из этих ребят —В нашем штабе бездарные свиньи сидят.Джек винтовку свою и мешок волочил.«Вот веселый дедок!» – Гарри Джеку твердил.Но приказ старика их обоих убил.Ситуации, подобные дилемме заключенного, возникают везде, где сталкиваются двое и встают перед выбором – сотрудничать или нет. Солдатам на Западном фронте не нужно было подглядывать в учебник по теории игр, чтобы сообразить, как увеличить свои шансы выбраться живыми. Тем более что теорию игр тогда еще не придумали. Суть в том, что индивиды, преследующие собственные интересы, в один прекрасный миг могут обнаружить, что сотрудничают с недавними противниками. Это первый намек на то, как эгоизм – то есть простое стремление к собственному благу – способен привести к кооперации.
Человеческое сотрудничество очень часто возникает благодаря такому «просвещенному эгоизму». И все же пока непонятно, как объяснить тот бескорыстный альтруизм, который проявили «Кроты из Тлателолько» во время землетрясения в Мехико. Может быть, в склонности людей к взаимопомощи есть нечто более глубокое? Существует некий биологический импульс, побуждающий нас сотрудничать? И если он существует, то откуда он взялся и как эволюционировал? Это и есть наш главный вопрос: ведь именно эволюция путем естественного отбора привела нас туда, где мы находимся сейчас. Каким образом естественный отбор, благоприятствующий любой наследуемой черте, которая дает преимущество в выживании и размножении, мог взрастить в нас явно бескорыстную готовность помогать другим?
2
Река сияющего света
Санкт-Петербург, 30 июня 1876 года, четыре часа пополудни. У открытого окна небольшого домика стоит скрипач: смычок замер над струнами. Музыкант ждет сигнала. И вот знак подан – не взмахом дирижерской палочки, а переданным по цепочке сообщением: «Все чисто». Его посылают друг другу анархисты-заговорщики, выстроившиеся в дозор вдоль дороги на протяжении трех с лишним километров. Каждый из них – часовой, следящий за тем, чтобы ничто не помешало карете промчаться во весь опор по намеченному маршруту. Ни одна неповоротливая крестьянская телега с тяжелым грузом не должна оказаться у нее на пути. Одному из часовых поручено прохаживаться взад-вперед по своему участку с носовым платком в руке, другому – сидеть на придорожном камне, поедая вишни. Этими вроде бы невинными жестами они подают условные знаки, стараясь не привлечь внимания царской охранки.
В четыре часа с небольшим приходит сообщение «Все чисто», и скрипач начинает играть бравурную мазурку. Напротив домика – двор тюремной больницы. Услышав условный музыкальный сигнал, заключенный, прогуливающийся по двору, сбрасывает тяжелый арестантский бушлат и бросается бежать к открытым воротам. О плане побега ему сообщили всего двумя часами ранее в зашифрованной записке, спрятанной в карманных часах. Охранник устремляется в погоню, швыряя в беглеца винтовку со штыком, но узник, хоть и слабый после двух лет заточения, все же опережает преследователя и невредимым достигает ворот. Он проскакивает мимо караульного солдата, который, по счастью, отвернулся, увлекшись беседой с приветливым прохожим – еще одним заговорщиком. Они обсуждают… как устроен микроскоп: солдат раньше работал в больничной лаборатории. Выбежав за ворота, беглец видит поджидающий экипаж, но с тревогой замечает, что кучер в военной фуражке. Уж не ловушка ли это? Он хлопает в ладоши, привлекая внимание. Кучер оборачивается: это друг! Кучер, в свою очередь, тоже узнает беглеца – князя Петра Кропоткина.
Поздним вечером весь Санкт-Петербург гудит. Сам царь приказывает немедленно найти Кропоткина, но друзья князя все предусмотрели. Облачившись в цилиндр и фрак, сбрив бороду, князь скрывается у всех на виду, ужиная с приятелями в модном ресторане: охранке и в голову не приходит туда наведаться. Но оставаться в России Кропоткину нельзя: в городе повсюду расклеены его портреты, всех его друзей уже допросила тайная полиция. С чужим паспортом, переодевшись в военную форму, он бежит через Финляндию в Швецию, а оттуда через Норвегию в Британию, которая уже стала пристанищем для Карла Маркса и других политических изгнанников.
Побег Кропоткина из российской тюрьмы – яркий пример командной работы и альтруизма. В заговоре с целью освобождения князя участвовали 20 человек, и все они рисковали разделить его участь: сесть в тюрьму, отправиться в ссылку – и это в лучшем случае[20]. Впрочем, как бы ни был драматичен этот эпизод, у Кропоткина есть еще более веские основания претендовать на место в истории сотрудничества благодаря книге, которую он впоследствии написал в эмиграции, – «Взаимная помощь»[21].

Рис. 3. Петр Кропоткин
Князь Петр Кропоткин (1842–1921) происходил из высших кругов русской аристократии. У его отца, генерала, было более 1200 крестьянских душ, но Петра воспитывали заботливые крепостные слуги, чья доброта и сердечность оставили неизгладимый след в его характере[22]. В 20 лет, окончив Пажеский корпус, Кропоткин был произведен в офицеры, но отказался от службы в гвардии, добровольно выбрав назначение в Сибирь, в одну из казачьих частей. Он надеялся, что в этом суровом краю сможет дать волю своему увлечению естественной историей и географией. Вдохновленный недавно опубликованным трудом Дарвина «Происхождение видов», он ожидал увидеть в Сибири свирепую конкуренцию между дикими животными. Однако его поразило другое: насколько звери зависят от сородичей не только в отношении размножения, но и в том, что касается самозащиты и добычи пищи. К тому времени уже было хорошо изучено, как тесно сотрудничают муравьи и пчелы в своих колониях, но Кропоткин обнаружил и другие примеры. Скажем, жуки-могильщики, обычно живущие особняком, объединяются с «коллегами», а порой и с жуками других видов, чтобы закапывать трупы мелких животных – дом и пищу для своих личинок[23].
Кропоткин провел в Сибири пять лет. Он сделал важные научные наблюдения и опубликовал их результаты, но также воочию увидел, как упорно российское государство противится любым попыткам улучшить жизнь сибиряков. Этот опыт укрепил его в мысли, что справедливости для масс можно добиться лишь одним способом: полностью упразднив государство и заменив его сетью стихийно возникающих и самоорганизующихся сообществ. Вернувшись в Санкт-Петербург, Кропоткин развернул агитацию за свои анархистские идеи, за что был арестован и заключен в мрачную Петропавловскую крепость. Спустя два года ему удалось совершить уже описанный дерзкий побег.
Русские эволюционисты, которые, как и Кропоткин, не понаслышке знали о суровости отечественного климата и его губительном влиянии на все живое, поэтому были склонны толковать дарвиновскую борьбу за существование как испытание на прочность перед лицом неумолимых сил природы[24]. Однако, перебравшись в густонаселенную Англию с ее более мягкими природными условиями, Кропоткин обнаружил, что здешние ученые, такие как Томас Генри Гексли, рассматривают эту борьбу скорее как соперничество за ресурсы между представителями одного вида, а не как противостояние с внешней средой. На воззрения англичан сильно повлиял труд преподобного Томаса Мальтуса «Опыт закона о народонаселении»[25]. По мысли Мальтуса, человеческая популяция всегда растет до предела, обусловленного доступными пищевыми ресурсами, после чего природа берет свое[26]. Книга Мальтуса вдохновила Чарлза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, которые установили, что описанный в ней принцип применим ко всем живым существам.
Дарвин и Уоллес независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу: естественный отбор будет способствовать распространению в популяции любого наследуемого признака, дающего его носителю преимущество в борьбе за существование. Именно это и приводит к эволюционным изменениям видов.
Работа Гексли «Борьба за существование в человеческом обществе» своей гоббсовской жестокостью неприятно поразила Кропоткина, который к тому времени уже снискал некоторую известность в Англии как писатель и журналист. Гексли писал:
[Можно было] сказать о древнем человеке в его «диком» состоянии: слабейшие и глупейшие погибали, тогда как самые стойкие и хитрые, лучше всех приспособившиеся к обстоятельствам, пусть и не лучшие ни в каком ином отношении, – выживали. Жизнь была нескончаемой схваткой, и за пределами ограниченных и временных семейных уз гоббсовская война всех против всех была нормой существования[27].
Иными словами, общество возникает вопреки естественному отбору, а не благодаря ему. Полученное в России образование, собственные непосредственные наблюдения в Сибири и, разумеется, анархистские взгляды – все это сподвигло Кропоткина написать серию статей о сотрудничестве и эволюции в ответ Гексли. Эти статьи впервые вышли во влиятельном литературном журнале The Nineteenth Century, а затем были собраны воедино в его книге «Взаимная помощь», опубликованной в 1902 году[28]. Этот классический труд, представляющий собой пространный исторический обзор проявлений взаимопомощи в истории человечества, изобилует примерами сотрудничества и социальной организации среди животных. Объединение примеров из жизни животных и людей под одной обложкой сильно напоминает позднейшие работы Дарвина, в которых подчеркивается эволюционная преемственность.
Эмигрировав из России, Кропоткин 40 лет прожил в Западной Европе, по большей части в Англии, однако несколько раз побывал в Соединенных Штатах с длительными лекционными турне. К моменту свержения ненавистного царского режима в ходе Февральской революции 1917 года он был уже немощным стариком, но не мог оставаться в стороне от того, что казалось воплощением мечты всей его жизни о свободе для русского народа. Он покинул Великобританию под чужим именем, но слух об этом разлетелся, и во время путешествия на восток знаменитого писателя и радикала на каждой станции встречали восторженные толпы. Когда в два часа ночи поезд Кропоткина подъехал к Финляндскому вокзалу, к конечной точке пути на родину, его приветствовали военный оркестр, игравший «Марсельезу», и 60-тысячное людское море.
Но обещания революции не сбылись. В последовавшей борьбе за власть победили большевики во главе с Лениным, добившись абсолютного господства. Кропоткин язвительно говорил: «У революционеров были идеалы. У Ленина их нет… Вещи, называемые добром, и вещи, называемые злом, для него одинаково бессмысленны». Анархистов и других политических противников большевиков расстреливали, но Кропоткина пощадили – судя по всему, было очевидно, что он долго не протянет, а его убийство вызовет международный резонанс. Он умер под Москвой в феврале 1921 года. Английский поэт и анархист Герберт Рид позже написал о его смерти:
Река сияющего света
текла в разверстую могилубудто весь свет в мире перелилсявместе с его гробомв русскую землю.Кропоткин боготворил Дарвина и полагал, что взаимопомощь среди особей одного вида полностью согласуется с эволюционной теорией. Хоть это и верно, Кропоткин все же упустил нечто важное. Естественный отбор благоприятствует наиболее приспособленным особям, которые оставляют больше потомства. Аргумент Кропоткина – взаимопомощь возникает в результате борьбы за существование – основывался на преимуществах, которые эта борьба дает группе, а не отдельной особи. Кропоткин осознавал это различие, но не увидел, что, сместив акцент с особи на группу, он подорвал объяснительную силу теории естественного отбора[29]. Впрочем, многие после него угодили в ту же ловушку, полагая, например, что естественный отбор действует на благо вида. Это не так, и нетрудно понять почему, если внимательнее рассмотреть пример, приведенный в книге Кропоткина «Взаимная помощь».
Кропоткин описал жуков-могильщиков, объединяющихся для захоронения трупов, которыми будет питаться их потомство, и с тех пор ученые многое узнали о жизни этих насекомых. Исследования показывают: действия, кажущиеся выгодными для группы, производятся лишь тогда, когда есть выгода и для особи. Как и предполагал Кропоткин, жуки сотрудничают, потому что один жук не может самостоятельно закопать труп, а сделать это нужно быстро, пока труп – настоящий пир для бактерий и грибков – не сгнил. К тому же падаль – лакомый кусочек для ворон, лис и других животных, а мухи всегда готовы отложить яйца и заразить труп своими личинками. Защита ценного ресурса от такого множества конкурентов может стать для жуков-могильщиков мощным стимулом к сотрудничеству.
Раскапывая почву под мертвым животным, чтобы спрятать его, жуки также очищают его от перьев или шерсти, придавая трупу форму шара и нанося на него слой слизи. Такое покрытие представляет собой в основном экскременты жука, обогащающие труп бактериями из кишечника насекомого, которые подавляют рост других бактерий – гнилостных, они в свою очередь быстро превратили бы труп в разложившуюся массу[30]. Этот слой не только сохраняет плоть, но и подавляет запах разложения, привлекающий мух. Жуки удаляют с трупа отложенные мухами яйца. Впрочем, если труп изрядно заражен личинками, жуки-могильщики проявляют меньший интерес к его колонизации[31].
Забальзамированный труп становится съедобным подземным гнездом, где могут вместе расти несколько выводков личинок жуков. Самых юных личинок кормят кусочками туши взрослые особи обоих полов. Это может показаться идиллической картиной домашнего благополучия, пусть и в духе семейки Аддамс, – но сотрудничество между взрослыми, заботящимися о подрастающем поколении, не безусловно. Жуки объединяются только тогда, когда совместная родительская забота выгодна отдельной семье или когда жуки не могут различить, какие личинки их собственные, а какие – чужие.
Если туша настолько мала, что ее может захоронить одна пара жуков-могильщиков, они не делятся ресурсом, а отгоняют других жуков, пытающихся отложить свои яйца в будущее «гнездо». Но есть еще одна ситуация, когда обычно враждебные жуки-могильщики сотрудничают друг с другом: наличие конкуренции. Туши, поедаемые личинками мух, издают характерный неприятный запах из-за соединения под названием диметилдисульфид (DMDS). Одного присутствия DMDS в воздухе достаточно, чтобы побудить жуков-могильщиков к сотрудничеству[32]. Для жука-могильщика DMDS – это громкая сирена, предупреждающая о необходимости объединиться перед лицом общего врага.
Такое поведение жуков-могильщиков иллюстрирует одну из простейших ситуаций, когда сотрудничество возникает благодаря естественному отбору: прямую выгоду для сотрудничающих. Вникнув в детали их естественной истории, мы ясно видим, что жуки сотрудничают только тогда, когда это выгодно лично для каждого из них. Как и у солдат в окопах, сотрудничество среди жуков-могильщиков условно. Альтруизмом как таковым здесь и не пахнет. Более того, если бы имелся гипотетический ген, который заставлял бы самку жука-могильщика помогать другой самке, не откладывая при этом собственных яиц, то, очевидно, такой ген альтруизма не смог бы передаваться дальше. В этом и заключается сложность объяснения возникновения альтруизма в процессе эволюции: создается впечатление, что мы зашли в тупик.
Казалось бы, где жуки-могильщики, а где «Кроты»-спасатели… Но мы знаем, что альтруизм и сотрудничество без прямой выгоды – реальные явления, не в последнюю очередь у представителей нашего собственного вида. А среди социальных пчел и муравьев есть стерильные самки-рабочие, которые всю свою недолгую жизнь собирают пищу для матки – единственной особи, способной к размножению. Мир людей и мир животных полны примеров взаимопомощи, Кропоткин был прав – даже если он не смог увязать самые крайние ее проявления с естественным отбором. Но, может быть, эта проблема решается иначе?
3
От эгоистичных генов к социальным существам
Моряки вынуждены действовать сообща. Это единственный способ выжить посреди полной опасностей морской стихии. И особенно это справедливо для тех, кто ведет суровую жизнь пирата… Во времена так называемого золотого века пиратства (середина XVII – начало XVIII вв.) экипажи пиратских судов представляли собой удивительно сплоченные коллективы. Команды численностью более 100 человек не были редкостью. Знаменитый капитан Черная Борода как-то набрал больше 300 головорезов[33]. Как же добиться слаженности действий и избежать раздоров в такой огромной банде, запертой на тесном деревянном судне? Ответ может показаться неожиданным, поскольку он идет вразрез с расхожими представлениями. В самом деле, разве пираты не самые жадные, жестокие и эгоистичные люди на свете?
Экипажами торговых судов, становившихся добычей пиратов, управляли посредством страха и телесных наказаний. Капитан мог вытворять с командой чуть ли не все, что ему вздумается, лишь бы держать ее в узде, – и частенько пользовался этой властью. Пираты же, напротив, направляли свою жестокость в основном вовне, а не друг на друга. Пиратские корабли, захваченные у законных владельцев, принадлежали всей команде. Капитан считался первым среди равных: он жил в тех же условиях и ел ту же пищу, что и остальные (женщины-пираты, конечно, существовали, но их было крайне мало). Капитана выбирала сама команда, причем она же могла его и сместить, и даже наказать – например, за трусость или жадность.
На пиратских судах существовало разделение полномочий, которое позволяло еще эффективнее предотвращать злоупотребления, – задолго до того, как этот принцип взяли на вооружение демократические государства. Вне боевого режима дисциплину поддерживал не капитан, а квартирмейстер (эта должность также была выборной). Словом, у пиратов жилось настолько лучше, чем на торговых судах, что каждое нападение не только приносило добычу, но и обеспечивало приток новобранцев – из числа матросов.
Пираты не только практиковали разделение полномочий – у них была и своя «конституция»: свод правил, гарантировавший каждому право голоса, честную долю пропитания (включая спиртное) и добычи, а также компенсацию в случае ранения или увечья. Существовали и правила поведения на борту: никаких женщин, никаких азартных игр, никакого открытого огня вблизи крюйт-камеры, где хранился порох, никаких драк, отбой – строго в восемь вечера. Наказывали за нарушение этих правил порой сурово, но, в отличие от торговых судов, произвола не было. Пиратские «конституции» намеренно составлялись так, чтобы способствовать сотрудничеству и поощрять стремление к справедливости среди членов команды. Или, как неодобрительно высказался один судья, пираты были «злонамеренно сплочены и связаны уставом»[34].
Анархист Петр Кропоткин, знай он о принципе, лежащем в устройстве пиратских сообществ, вне всякого сомнения, охарактеризовал бы его как «взаимопомощь». На примере торговых и пиратских судов мы видим два совершенно разных способа добиться того уровня сотрудничества, который необходим для успешного выживания в море: принуждение или общность интересов. Удивительно, пожалуй, то, что именно пираты выбирали путь единой цели и взаимной выгоды.
Пираты со своим отбоем в восемь вечера – еще не самые опасные «командные» хищники в открытом море. Этот титул по праву принадлежит другому хищнику: особи этого вида тоже склонны объединяться в «злонамеренно сплоченные» коллективы. Речь о португальском кораблике. Внешне это существо напоминает медузу, но относится не к ним, а к родственному медузам отряду сифонофор. Сифонофоры – это не столько отдельные организмы, сколько колонии или плавучие поселения специализированных организмов, именуемых зооидами, общим предком которых был один-единственный основатель колонии. Зооидов сплачивает не пиратский кодекс, а общие гены, но в остальном сходство поразительное.
Колонию венчает особый модифицированный зооид: заполненный газом пузырь, удерживающий всех на плаву[35]. На пузыре красуется высокий тонкий прозрачный гребень с фиолетовой каймой – настоящий парус, под которым колония рассекает волны. Любопытно, что если у людей есть ведущая рука, то и у португальских корабликов имеется некое подобие «рукости»: у половины парус развернут вправо, у половины – влево, и этот признак закладывается еще на ранних стадиях эмбрионального развития. Ветер гонит «левшей» и «правшей» в противоположных направлениях. К нижней части пузыря (пнефматофора), расположенного над поверхностью воды, крепятся другие специализированные зооиды.
Среди них есть гастрозооиды, у которых имеется рот: они вырабатывают пищеварительные ферменты. Самостоятельно добывать пищу они не способны – эту задачу берут на себя ловчие зооиды (дактилозооиды), вооруженные длинными (до 30 м!) щупальцами. Щупальца, можно сказать, нашпигованы стрекательными клетками: коснувшись рыбы или другой мягкотелой жертвы, они парализуют ее посредством особого токсина. А затем, сокращаясь, как пружина, подтягивают добычу к поверхности – прямо ко ртам изголодавшихся гастрозооидов. В момент захвата добычи гастрозооиды начинают извиваться, разевая рты, словно ненасытные змеи Горгоны Медузы. Один ученый описал, как 50 гастрозооидов облепили рыбу длиной в 10 см и заглотили ее. Ферменты, выделяемые гастрозооидами, быстро превращают пойманную добычу в питательный «суп», который изливается в общую полость, где все зооиды колонии могут разделить трапезу.
Размножение у португальского кораблика – тоже делегированная функция. Она возложена на особых репродуктивных зооидов (гонофор), производящих сперму или яйцеклетки (в зависимости от пола колонии). Эти зооиды собраны в структуру (гонодендрон), которую, если провести аналогию с космическим кораблем, можно было бы назвать «посадочным модулем». Созрев, такой «модуль» действительно отделяется от колонии. Но репродуктивные зооиды не единственные его пассажиры. Там же располагаются маленькие щупальценосные зооиды, некоторое количество прожорливых гастрозооидов, нектофоры, двигатели гонодендрона (медузоиды, которые, сокращаясь, создают ток воды) и несколько студенистых полипов. Никто толком не знает, за что отвечают эти полипы, – но ведь в любой большой команде у кого-то есть такая загадочная роль, верно? Если бы мы, на манер пиратов, решили составить кодекс для португальского кораблика, он выглядел бы примерно так:
1. Куда дует ветер – туда и плывем; налево или направо – решает Капитан Пузырь.
2. Все зооиды – равноправные совладельцы генома.
3. Вся добыча – общая.
4. Никакого секса на борту!
И у пиратов на корабле, и у зооидов в колонии португальского кораблика сотрудничество зиждется на одном и том же принципе: на общности интересов. Пиратская команда на равных владела судном, и каждый пират получал равную долю добычи. Зооиды же в колонии – генетические клоны, у них общие гены и, следовательно, общая (и равная) заинтересованность в процветании колонии. И неважно, кто за что отвечает – за поддержание плавучести, ловлю добычи, пищеварение, движение, размножение или… в общем, за то, чем занимаются студенистые полипы. Вопрос в том, насколько принцип общности интересов объясняет кооперацию у других живых существ.
Перейдем к наземным животным. Колониальную структуру, схожую с португальским корабликом, мы видим у пчел, ос и муравьев – так называемых общественных перепончатокрылых. Возьмем, к примеру, европейскую медоносную пчелу. В этих семьях бесплодные рабочие самки заняты добычей пищи и заботой о потомстве, а откладывание яиц – исключительная прерогатива матки. А самцы (трутни) только с ней спариваются. Похожее разделение труда встречается у муравьев – с той разницей, что у некоторых видов есть еще и каста «солдат», специализирующихся на защите муравейника.
Если трутни – воплощение мужской праздности, то рабочие пчелы – прямо-таки викторианский идеал женской добродетели: усердно трудятся на благо улья и никогда не предаются плотским утехам. С точки зрения биологии рабочая пчела – альтруистка до мозга костей: одни затраты, никакого потомства. Такую семейную структуру, при которой бесплодная каста помогает растить и защищать чужих детенышей, называют эусоциальной. Эусоциальный организм – это команда, которая, как единое целое, передает свои общие гены следующим поколениям.
Но как вообще возникла эусоциальность? Ведь естественный отбор благоприятствует генам, кодирующим поведение, которое увеличивает представленность этих же генов в будущих поколениях. Альтруисты же действуют с точностью до наоборот: помогают другим в ущерб себе. «Этот случай, – писал Чарлз Дарвин о своих попытках объяснить подобное самопожертвование, – представляет собой одно из самых серьезных специальных затруднений для моей теории»[36]. Как вообще могут эволюционировать существа, не оставляющие потомков? У Дарвина был ответ.

