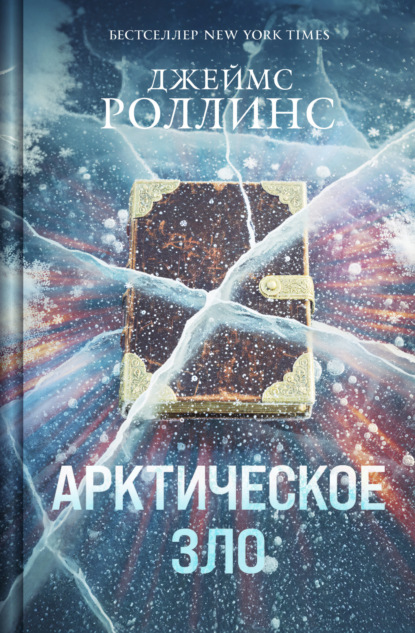
Полная версия:
Арктическое зло
Маленький отряд прошел еще с четверть версты, следуя вдоль высоких скал, обрамляющих каменистый берег. Казалось, Разин ведет своих спутников в никуда. Вокруг не было никаких следов жилья. Наконец капитан остановился, поднимая руку, и указал:
– Вы найдете их там.
Чичагов не сразу разглядел узкую щель в скале, обозначавшую вход в пещеру. Обернувшись, он обвел взглядом узкую полоску берега, но не обнаружил никаких следов кораблекрушения. Судя по всему, команда покинула обреченное судно – вероятно, после того, как оно застряло во льдах и было раздавлено. На Крайнем Севере такое, увы, случалось весьма часто; Чичагов сам чуть было не столкнулся с похожей трагедией во время своей попытки найти Северо-Восточный проход. Командор поморщился, представив себе моряков, бредущих по замерзшему морю в надежде найти спасение, добравшись до суши.
Вот только эта земля не принесла ничего хорошего.
– У меня работы по горло, – угрюмо проворчал Разин. – Предоставляю вам, воронью, кормиться падалью.
Никто не возражал, и капитан, развернувшись, направился обратно к затянутому дымом лагерю китобоев.
Ломоносов не стал ждать и решительно двинулся к пещере. Чичагов и Орлов поспешили следом за ним. Приблизившись к входу, поручик зажег фонарь, освещая короткий проход.
Затянутые толстым слоем льда стены отразили свет фонаря. Пол покрывала талая вода. Проход привел в небольшую пещеру, превратившуюся в ледяной склеп. У самого порога лежали четыре тела, переплетенные друг с другом, смерзшиеся вместе, образуя своеобразную зловещую баррикаду, преграждающую вход. Мертвецов или принесло сюда потоками попеременно тающей и замерзающей воды, или же, возможно, их сознательно сложили тут, чтобы они служили барьером, защищающим остальных пятерых членов команды, распростертых посреди пещеры.
Для того чтобы пройти дальше, Чичагову и его спутникам пришлось перелезать через мертвецов, смотревших на них пустыми невидящими глазами. Рты раскрылись в безмолвных криках, демонстрируя почерневшие языки и белые зубы.
Оступившись, Орлов раздавил каблуком сапога замерзшую руку. Поручик испуганно отпрянул назад, словно опасаясь возмездия от трупа.
Оказавшись в пещере, Чичагов переборол отвращение, подходя к уложенным в круг камням, почерневшим от копоти, обозначающим место очага. Судя по всему, моряки сожгли свои сани после того, как использовали их для перевозки снаряжения и продовольствия. И все же один предмет в глубине пещеры избежал огня. Даже умирая от холода, спасшиеся моряки не сожгли его. Это говорило о том, как высоко они этот предмет ценили.
Ломоносов быстро подошел к заветной добыче.
Держась поодаль, Орлов поднял фонарь, освещая стену рядом с собой. На камне был высечен длинный перечень имен – скорее всего, список членов команды, эпитафия, написанная мертвыми.
Ломоносов сдавленно вскрикнул, возвращая Чичагова к действительности. Статский советник застыл перед большим предметом в глубине пещеры. Это был здоровенный бивень, изогнутый, длиной больше сажени.
– Что это такое? – с опаской спросил Орлов.
– Бивень мамонта, – ответил Ломоносов. – Еще его называют рогом. Племена самоедов часто находят такие в размытых поймах северных рек. Самоеды считают, что это останки давно вымерших морских слонов.
Чичагов пожал плечами.
– Но почему моряки затонувшего корабля потратили столько усилий, чтобы притащить бивень сюда, сохранить его?
– Фонарь… – махнул рукой Орлову Ломоносов. – Поднесите его ближе!
Чичагов кивнул своему помощнику, предлагая выполнить приказ. Ломоносов указал на бивень.
Почти вся изогнутая поверхность, очищенная до кости, превратилась в холст для древнего художника, вырезавшего на нем замечательный рисунок, проработанный в мельчайших деталях. К сожалению, время и непогода не пощадили работу, оставив от нее только несколько отдельных кусков. Тем не менее сохранившихся фрагментов хватило, чтобы увидеть какой-то город с характерными пирамидальными сооружениями.

– Это же… – Ломоносов поперхнулся. – Всё так, как описал шкипер Разин!
– Но кто вырезал этот рисунок? – спросил Орлов. – Кто-то из команды?
Ломоносов пропустил его вопрос мимо ушей. Даже Чичагов понимал, что такого не может быть. Этой резьбе по кости было гораздо больше лет, чем злосчастным морякам.
Отобрав у Орлова фонарь, Ломоносов принялся внимательно изучать бивень. Он осветил его со всех сторон, выхватив и другие фрагменты: полуразрушенную башню, роскошный трон, серп полумесяца.
– Что было изображено здесь? – спросил Чичагов.
Ломоносов напрягся. Он поднес свет ближе к бивню и какое-то время пристально разглядывал один участок поверхности – после чего передал фонарь Чичагову.
– Подержите!
Командор забрал у него фонарь, и Ломоносов, отступив назад, засунул руку за пазуху своей тяжелой шубы. Воспользовавшись этим, Чичагов присмотрелся к тому, что вызвало такую реакцию у коллежского советника.
Луч фонаря высветил еще один фрагмент резьбы – лишь маленький кусочек, но достаточный для того, чтобы разобрать буквы, грубые, возможно, добавленные позже, в спешке.
Чичагов прищурился, разглядывая надпись.

– Эти буквы… по-моему, они…
– Они греческие, – подтвердил Ломоносов, доставая из внутреннего кармана записную книжку. – Мне кажется, это название. Громко звучавшее на протяжении тысячелетий.
– Что это за название? – спросил Орлов, с опаской оглядываясь на мертвые тела.
Полистав записную книжку, Ломоносов нашел нужную страницу и показал ее Чичагову.
– Эти слова написаны Пиндаром, древнегреческим поэтом-лириком, жившим в шестом веке до нашей эры. Они из десятой части его Пифийских од.
Нахмурившись, Чичагов покачал головой, не понимая смысл этого древнего текста.
Вздохнув, Ломоносов постучал пальцем по одному слову.
– Ничего не напоминает?
Чичагов перевел взгляд с текста в записной книжке на надпись, вырезанную на бивне.
– Похоже, это то же самое слово – по крайней мере его часть, вырезанная на кости. Но что это означает?


– Как я уже сказал, это название, название одного мифического места. – Ломоносов вернулся к изучению изображения пирамид.
– Какого места? – настаивал Чичагов.
– Гипербореи.
Чичагов презрительно фыркнул. Все, кто плавал по этим морям, слышали про легендарный затерянный северный континент, землю, свободную ото льда, покрытую густыми лесами и населенную бессмертными людьми. Многие исследователи пытались его найти…
Чичагов выпрямился, осененный внезапной догадкой.
– Именно ее искали эти несчастные? – Он пристально посмотрел на Ломоносова. – Не Северо-Восточный проход – а Гиперборею?
– По поручению ее величества императрицы, – подтвердил Ломоносов.
– В таком случае они были обречены с самого начала! – Чичагов стиснул кулаки.
Ломоносов не отрывал взгляда от изогнутого бивня.
– Действительно, перед экспедицией была поставлена очень сложная задача. Цитируя Пиндара, «ни на корабле, ни пешком нельзя найти чудесную дорогу к месту встречи гиперборейцев».
– Другими словами, дурацкая затея.
Подняв брови, Ломоносов строго посмотрел на командора.
– Вы смеете называть императрицу Екатерину дурой?
Поморщившись, Чичагов взял на заметку следить за своим языком, чтобы не быть повешенным за предательство.
– Екатерина не дура, – продолжал Ломоносов. – Больше того, она совершила то, что не удавалось никому. – Покачав головой, он поджал губы, словно также напоминая себе следить за своим языком. – Достаточно будет сказать, что императрица снарядила экспедицию, снабдив ее руководителя точными указаниями.
Чичагову хотелось потребовать объяснений, но он знал, что Ломоносов непреклонен. Поэтому решил зайти с другой стороны.
– В любом случае зачем ее величеству понадобилось искать этот затерянный континент? Я слышал рассказы про жителей Гипербореи, про эликсир, дарующий сотни лет жизни… Такая награда манила многих исследователей. Именно его хотела найти Екатерина?
Ломоносов тяжело вздохнул.
– Вы опять называете императрицу дурой, пусть и не явно. Единственное бессмертие, которого она ищет, это величие Российской империи, которая должна засиять ярче, чем европейские державы, смотрящие на нас как на дикарей. Открытие Гипербореи – или хотя бы того, что от нее осталось – принесет России больше славы, чем даже открытие Северо-Восточного прохода.
Усомнившись в этом, Чичагов снова переключил свое внимание на изогнутый бивень.
– И вы полагаете, что это может служить доказательством того, что первая экспедиция добилась успеха?
– Я… даже не знаю, но есть надежда. Отправная точка.
Чичагов прочувствовал всю тяжесть слов Ломоносова, всю тяжесть того, что осталось невысказанным.
– И вы хотите, чтобы мы довели это дело до конца…
– Вот почему ее величество отправила меня со своим указом.
Чичагов оглянулся на ледяной склеп, моля бога о том, чтобы ему со своими людьми не пришлось разделить судьбу этих несчастных. Он отметил, что Орлов стоит в стороне, у конца бивня. Поручик запрокинул голову. Он смотрел не на бивень, а на стену за ним.
Держа фонарь в руке, Чичагов подошел к Орлову и посветил на стену. Вместе с именами мертвых кто-то высек на камне последнее предостережение. Поручик прочитал его вслух:
– «Никогда не ходите туда, никогда не вторгайтесь в эти пределы, никогда не будите то, что спит».
Чичагов повернулся к Ломоносову. Взгляд коллежского советника оставался прикован к бивню, к изображению древнего города, вырезанному на кости. В свете фонаря сверкнули его глаза.
В это мгновение Чичагов понял правду.
Никакие предостережения мертвецов не остановят Ломоносова.
Часть I

1
10 мая, 13:03 по Московскому поясному времени
Москва, Российская Федерация
В подземелье царила тишина могильного склепа, однако на полу застыли не саркофаги. Под куполообразным кирпичным сводом выстроились полукругом десять окованных железом сундуков. Единственными звуками были отголоски падающих капель воды, доносящиеся из лабиринта тоннелей, который пришлось преодолеть маленькой группе, чтобы добраться до этого места.
Монсеньор Алекс Борелли вошел в подземное помещение, испытывая дрожь, обусловленную отчасти радостным возбуждением, отчасти волнением. Сердце гулко колотилось у него в груди. Монсеньор чувствовал себя вором, разорителем могил.
– Поразительно! – с юношеским воодушевлением выпалил Вадим. – Всё именно так, как я описал, да?
– Да, просто поразительно! – подтвердил Борелли.
Вадим был студентом Московского государственного университета. Неделю назад он вместе с группой диггеров, любителей изучать подземелья, случайно наткнулся на замурованное хранилище, погребенное глубоко под московскими улицами. К счастью, молодой человек сразу же понял всю важность своего открытия и предупредил сотрудников археологического музея.
Борелли воспринял это открытие как знак небесного провидения, особенно если учесть, что он в тот момент уже находился в Москве. Как член Папской комиссии по священной археологии, монсеньор работал в тесном сотрудничестве с Апостольским архивом в Риме. Как профессионала, его в первую очередь интересовала история святой библиотеки, установление происхождения этого собрания рукописей и книг. На протяжении десятилетий Борелли удалось открыть много поразительных и порой грязных фактов, связанных с различными томами.
На самом деле именно поэтому он приехал в Москву, чтобы встретиться со своим коллегой из Русской православной церкви. Все последние годы Священный синод требовал вернуть сотни томов, хранящихся в Ватиканской библиотеке, которые действительно были похищены из России еще в царскую эпоху. Папа лично отправил Алекса Борелли в Москву вести переговоры. Требовались незаурядные дипломатические способности для того, чтобы установить, кто обладает законными правами на ту или иную книгу, многие из которых имели огромную историческую ценность.
И тут несколько дней назад до Борелли дошли новости о хранилище древних книг, замурованных в склепе глубоко под землей. Его коллега от Русской православной церкви епископ Филарет (Николай Елагин) пригласил монсеньора присоединиться к команде археологов и помочь установить, какие книги имеют ценность. Лишь горстка специалистов обладала знаниями и опытом, необходимыми для оценки важности того, что хранилось под землей.
И все-таки Борелли понимал, что свою роль сыграли соображения высокой дипломатии. То обстоятельство, что его включили в состав команды, являлось демонстрацией готовности православной церкви к сотрудничеству.
– Ну, как будем действовать? – спросил Игорь Кусков, нагоняя монсеньора в дверях.
– Осторожно.
Борелли обернулся. Долговязый, темноволосый, Игорь работал в Московском археологическом музее. Двадцати с небольшим лет, он был почти на сорок лет моложе семидесятидвухлетнего Борелли.
– Прежде чем к чему-либо прикасаться, нам нужно сфотографировать все книги, – предупредил монсеньор. – После чего мы методично составим полный каталог.
Игорь кивнул, пропуская его вперед.
– Я сообщу остальным.
Он подошел к своим коллегам-археологам. Маленькая группа состояла из пятерых мужчин и одной женщины; все они были моложе сорока. После обильной жестикуляции и суровых взглядов в сторону Борелли группа двинулась вперед, таща свое снаряжение. Как и Борелли, все были в темно-синих комбинезонах и касках, увенчанных мощными фонариками. Археологи начали устанавливать штативы, делать измерения и фотографировать – не только сундуки, но и стены и двери хранилища.
Борелли порадовался такой дотошной аккуратности.
Однако не все разделяли его чувства. Недовольный медлительностью своих коллег, Вадим нетерпеливо махнул Борелли. Студент остановился перед сундуком, тем самым, который вскрыли его приятели-диггеры. Сундук стоял слева от двери, вдалеке от всеобщего оживления.
– Подойдите сюда, посмотрите, что здесь, – сказал Вадим.
– Только ничего не трогайте! – предупредил Борелли. – С книгами нужно обращаться очень бережно.
Вадим усмехнулся, но добродушно, словно ребенок, вынужденный терпеть ворчливого дедушку.
– Не переживайте. Я не позволю никому ничего и пальцем тронуть. Мы только заглянем в сундук, да? Одним глазком!
– Ну хорошо…
Борелли подошел к открытому сундуку. Игорь следовал за ним с горящими от любопытства глазами.
Внутри сундука, разделенного деревянными перегородками, виднелись корешки кожаных переплетов. Судя по всему, под верхней секцией находились другие, установленные одна на другую.
Борелли провел лучом фонаря на каске по верхней секции, читая вслух названия книг:
– Платон, «Тимей» и «Критий»… Аристотель, «О частях животных»… Птолемей, «Альмагест». – Он наклонился к сундуку. – А это, похоже, византийское издание «Гиппократовского корпуса».
Возраст этих книг был несколько сот, если не тысяч лет. И все они сохранились в относительно хорошем состоянии.
Борелли потер ноющую грудь: от волнения ему стало трудно дышать.
– Невероятно!.. – в восхищении пробормотал Игорь, судя по всему, так же пораженный увиденным.
Сотрудник археологического музея осторожно поднес палец к кожаному переплету «Гиппократовского корпуса». В этой книге были собраны шестьдесят медицинских трактатов, приписываемых древнегреческому целителю и философу Гиппократу. Однако Кускова интересовало не ее содержание.
– Вы сказали, византийское издание, – повернулся он к Борелли.
– Возможно, византийское, – осторожно поправил тот, понимая, какие надежды породили у Кускова его слова.
– Если так, это может свидетельствовать о том, что эти сундуки, эти книги из Золотой библиотеки.
Борелли оглянулся на археологов, которые работали в противоположной части помещения, переговариваясь между собой по-русски. Он знал, что эту надежду питают они все.
На протяжении столетий сотни людей – историков, исследователей, искателей приключений, воров – искали Золотую библиотеку, сокровищницу древних книг, спрятанную царем Иваном Грозным и пропавшую после его смерти. Однако эта коллекция принадлежала не ему; обширную библиотеку собрал в пятнадцатом веке его дед, великий князь Иван III. Значительную ее часть составляло приданое второй жены Ивана Софьи Палеолог, византийской принцессы, которая привезла книги с собой после падения Византийской империи. По слухам, среди них были самые ценные книги из Константинопольской библиотеки, в том числе рукописи из древней Александрийской библиотеки.
Борелли с завистью обвел взглядом выстроившиеся полукругом сундуки. Согласно летописям, в Золотую библиотеку входили книги на древнегреческом языке, латыни, иврите, древнеегипетском языке и даже китайские тексты, написанные во втором веке нашей эры.
– Если нам когда-либо посчастливится ее найти, – возбужденно продолжал Игорь, – только представьте себе, какие тайны мы сможем раскрыть! Я читал утверждение Христофора фон Дабелова, историка начала девятнадцатого века о том, что он якобы видел список книг из собрания Золотой библиотеки. В этом списке присутствовали все сто сорок два тома «Истории Рима» Тита Ливия, из которых до настоящего времени дошли только тридцать пять. Фон Дабелов также упомянул неизвестную поэму пера Виргилия. И полный текст трактата «О государстве» Цицерона. Вы можете себе представить, какое значение будет иметь это открытие?
Борелли постарался умерить энтузиазм Кускова.
– Мне знакомо заявление фон Дабелова. Оно является очень сомнительным; скорее всего, речь идет о подделке. Больше того, вполне вероятно, что Золотая библиотека не сохранилась до нашего времени. Возможно, она давным-давно сгорела или была уничтожена.
Игорь покачал головой, отказываясь принять это.
– Иван Грозный высоко ценил это собрание и пригласил полчища переводчиков для работы с книгами. Документально зафиксировано, что царь умышленно спрятал собрание где-то под землей – в Москве или где-то в другом месте. Есть рассказы о том, что Грозный обнаружил среди книг какие-то мистические тексты, которые якобы должны были сделать Русь могущественной. Это убеждение было настолько твердым, что многие ученые, занимавшиеся переводом книг, бросили работу и бежали, опасаясь того, что царь воспользуется черной магией, обнаруженной в книгах, чтобы сотворить великое зло.
Борелли бросил на него скептический взгляд.
– Не важно, есть ли правда в этих легендах, – пожал плечами Игорь. – Достоверно известно, что Грозный верил в то, что будущее Русского государства связано с этой библиотекой. А если царь действительно считал собрание книг таким ценным, он обязательно постарался бы спрятать ее получше и ни в коем случае не допустил бы ее уничтожения.
В их спор вмешался Вадим, которому, похоже, была абсолютно безразлична эзотерика пропавших библиотек.
– Взгляните! – указал на сундук он. – Там что-то сияет. Внизу, в глубине.
Склонившись к сундуку, Борелли посмотрел туда, куда указывал Вадим.
– Что вы имеете в виду?
– Под верхним рядом книг. – Вадим шагнул вперед. – Сейчас покажу.
Он ухватился за ручки дубового ящика с книгами, собираясь вытащить его из сундука.
– Ни в коем случае! – окликнул его Борелли.
– Не смей! – подхватил Игорь.
Не обращая на них внимания, Вадим вынул верхний ящик из сундука.
Убедившись в том, что исправить что-либо уже поздно, Борелли замахал студенту руками.
– Осторожнее! Отнесите ящик в сторону и бережно опустите на пол. На сухое место. Нужно сфотографировать его и лежащие в нем книги.
Тяжело дыша, Вадим отошел от сундука, сгибаясь под тяжестью ноши.
Покачав головой, Борелли проводил его взглядом.
– Он был прав, – сказал Игорь, привлекая к себе внимание монсеньора.
Подойдя к сундуку, Борелли посветил фонариком в его недра. Следующий уровень был заполнен такими же книгами, однако средний ряд занимал набор из девяти фолиантов. Борелли прочитал названия на корешках.
– О господи, это же полное собрание «Истории» Геродота! – Он ахнул, глядя на рукописи пятого века до нашей эры. – До сих пор еще не было обнаружено ни одного нетронутого собрания! Готов поспорить, эти книги древнее «Амиатинского кодекса»[17] из флорентийской библиотеки Лоренцо Медичи! Та рукопись служила образцом для более поздних переводов.
– Но почему только четвертый том собрания покрыт золотым окладом?
Борелли озадаченно нахмурился. Все девять томов были в кожаных переплетах, однако лишь четвертый был украшен золотом. Именно отразившиеся от благородного металла отблески и привлекли внимание Вадима.
Не в силах удержаться, Борелли протянул руку и осторожно взял том. Не сказав ни слова, Игорь шагнул к нему, также переполненный любопытством. Когда Борелли извлекал фолиант из сундука, внутри что-то щелкнуло, настолько громко, что они оба отпрянули назад.
Через какое-то мгновение в подземелье раздался оглушительный грохот.
Борелли не удержался на ногах.
– В чем дело…
Схватив монсеньора за талию, Игорь буквально потащил его к выходу. Добравшись до двери, он толкнул Борелли вперед и сам перепрыгнул через порог, в тот самый момент как обвалился свод
Оглянувшись, Борелли успел мельком увидеть за спиной Кускова Вадима, обернувшегося к ним. Затем он и остальные археологи исчезли, раздавленные обрушившимися кирпичами.
Стена пыли пронеслась по двоим распростертым на полу ученым, ослепляя, удушая их.
Борелли закашлялся, пытаясь понять, в чем дело. Смахнув с него пыль, Игорь помог ему подняться на ноги.
– Склеп… – объяснил он, – похоже, в нем была оборудована ловушка.
– Но почему? – простонал монсеньор.
Нетвердо держась на ногах, они подошли к тому, что осталось от дверного проема. Несколько минут они окликали тех, кто мог остаться в живых, однако Борелли понимал, что это бесполезно. Никакая надежда не могла устоять под тяжестью обрушившихся сводов. Не вызывало сомнений, что никто не мог выжить под массой обвалившегося кирпича.
Гул продолжался, угрожая новыми обвалами.
– Оставаться здесь нельзя! – Указав вверх, Игорь увлек Борелли вперед к выходу.
14:07
Спасаясь от преследующей их по пятам смерти, Борелли карабкался по ступеням, высеченным в каменистом грунте. Он прижимал к груди то, что ему удалось спасти. Его сердце колотилось по покрытому золотым окладом переплету четвертого тома «Истории» Геродота.
Монсеньор выронил древнегреческий трактат, когда его отшвырнуло от сундука, но затем подобрал его с пола. Он уже успел мельком осмотреть книгу, стряхнув пыль с ее страниц, вытерев плесень с украшенного золотом переплета. И только тогда заметил нечто такое, что силился понять до сих пор…
Несмотря ни на что, одно не вызывало сомнений.
– Нельзя допустить, чтобы это пропало… – пробормотал Борелли, обращаясь в темноту, направляя луч фонаря на каске на винтовую лестницу.
– Монсеньор, позвольте мне нести эту книгу, – предложил Игорь, протягивая руку. – Нам еще долго подниматься.
Борелли оглянулся на сотрудника музея. Взгляд Игоря был полон боли невосполнимой утраты. Ужас и скорбь лишили крови его лицо, оставив его мертвенно-бледным.
Борелли крепче прижал к груди древний фолиант.
– Это моя ноша, и нести ее мне! Все эти люди погибли из-за моей глупости!
Игорь опустил руку.
С тяжелым сердцем Борелли продолжил подниматься по лестнице. Еще в Риме кардиолог отговаривал его от этой поездки, однако в настоящий момент мучительно болезненным каждый вдох делала не недавняя операция на сосудах. Грудь ему сдавливало чувство вины. Каждый удар сердца словно кувалдой колотил по грудной клетке.
– Не надо мне было торопить события, – с сожалением пробормотал монсеньор.
– Никто с вами не спорил, – возразил Игорь. – Нельзя было рисковать тем, что об этой находке станет известно. Нужно было забрать сундуки до того, как подземное хранилище будет разграблено.
Борелли с трудом сглотнул комок в горле. Сам он не далее как вчера использовал те же самые доводы, уговаривая российских археологов действовать быстро. Однако двигали им и другие соображения. Здоровье Борелли резко ухудшилось в последнее время, и он не мог позволить себе упустить такую возможность. В своем возрасте ему пришлось принять горькую правду.
Терпение – это роскошь молодых.
Раздавленный чувством вины, с ноющим сердцем, Борелли сделал очередной поворот на винтовой лестнице и свободной рукой отер пот со лба. Влажный воздух был удушливым; на стенах блестели скользкие подтеки. Безмолвно шевеля губами, монсеньор мысленно молился за погибших, и тут его нога поскользнулась на пятне черной плесени. Вскрикнув, Борелли взмахнул руками, падая на четвереньки. Сила удара о каменные ступеньки отдалась болью до самых зубов. Вывалившись из руки, драгоценный трактат ударился о стену и покатился вниз по лестнице.

