
Полная версия:
Путь избавления. Школа странных детей
В конце концов я решил разделить послание на отрезки, выделив продолжительные непрерывные монологи, а вместо тишины вставить между монологами другие документы. Однако читателю следует помнить, что перед ним один документ, представленный без сокращений. В идеале эту книгу следует прочесть «в один присест», начав примерно в четыре часа пополудни и завершив примерно в тот же час, когда закончилось путешествие Сибиллы Джойнс. – Ред.
Исполосованная белым чернота окутывает меня, заволакивает взгляд стеклянной пеленой, подобно катаракте, затем с шумом и криками обрушивается вниз. Шум и крики столь постоянны, что постепенно стихают и уже кажутся тишиной. Здесь есть и другие; их так много, что я перестаю различать их по отдельности; они сливаются, и вскоре мне кажется, что я по-прежнему одна. Мы с грохотом падаем вниз и ударяемся о фундамент мира. Мир рассыпается на оскал осколки, мимо проносятся вспышки – слишком мимолетные, чтобы сложить их воедино. Но вот я слышу голос и узнаю его; почва под ногами обретает твердость. Другие проносятся мимо, покинув меня.
[Помехи.]
Ты слышишь?
[Помехи; звуки дыхания.]
От потока отделяется фигура. Высокая, худощавая дама, с ног до головы закутанная в траурный креп и бумазею, опутанная ониксовыми бусами и черной вуалью. Ее пышный бюст – не более чем изогнутый щит из китового уса, иллюзия плоти, но не плоть. Глянцевый щиток вызывает ассоциации с панцирями насекомых. Кажется, передо мной важная птица. Она сжимает лорнет и оглядывается, словно ищет кого-то.
Подозреваю, меня.
Важная птица открывает свой – мой – рот. Я что-то говорю. Вот что я говорю, говорю я вот что, вот что я говорю, говорю я [далее несколько слов неразборчиво] —
Стоп.
Соберись.
Заново.
Скажи, что меня зовут Сссс… Сибилла Эджадикейт Джойнс; что мне чуть меньше двухсот десяти лет, а точный возраст установить невозможно из-за частых… назовем их путешествиями во времени; что я носила траурный креп с одиннадцати лет и не намерена отказываться от него т-т-т-теперь.
Фонотактические дефекты передавать не надо.
Скажи, что я занимаю пост директрисы Специальной школы, своего рода профессионального училища, и обучаю детей, страдающих дефектами речи – хотя на самом деле это не дефекты, просто принято так считать – передавать послания из мира мертвых. Я и сама была такой когда-то. Ребенком с дефектом речи. Заикой. Скажи, что моими устами вещают мертвые. Или сами мертвые пусть скажут, это одно и то же. Скажи, что я передаю это донесение из меры миры мира мертвых, где провела много приятных часов. (На самом деле это не часы, здесь нет часов, но если бы я взялась объяснять, как тянется здесь время, несмотря на то что его нет, мы потратили бы целый день, хотя тут нет и дней.) Скажи, что я живу в школе со своими учениками, что они для меня – как семья; кому-то это может показаться милым, но не тем, кто знает, что случилось с моей настоящей семьей: мать повесили; отец сгорел заживо.
Скажи, что пропал ребенок.
[Помехи; звуки дыхания.]
Ты слышишь?
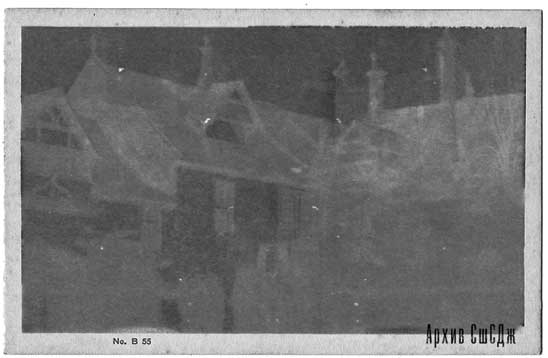
Рассказ стенографистки Дж. Грэндисон
17 ноября 1919 года
Юная Джейн Грэндисон стенографировала последнее послание директрисы Джойнс, сидя на своем обычном посту у медного раструба передатчика. По всей видимости, она делала следующие ниже автобиографические заметки в периоды затишья, о которых мы уже упоминали. Стоило директрисе замолчать, и Джейн вставляла в пишущую машинку чистый лист, а как только директриса снова начинала говорить, меняла его на старый. Я представляю две стопки бумаги на рабочем столе, растущие по очереди – сначала одна, потом другая (не стану высказывать весьма спорное предположение о том, что листки в стопках могли перемешаться); хотя упоминание о «ночи» во втором абзаце свидетельствует о том, что Грэндисон приступила к написанию своих заметок примерно в то же время, когда рассказ Джойнс близился к середине, следовательно, моя воображаемая картина с двумя стопками не совсем верна. Тем не менее, я предпочел чередовать их рассказы, так как это соответствует духу повествования, пусть даже идет вразрез с реальной хронологией. Как и последнее донесение Сибиллы Джойнс, рассказ стенографистки разбит на части и прерывается другими материалами.
Помимо бесценных сведений о личностях первой и второй Сибиллы Джойнс (простите мне этот онтологический солецизм, я понимаю, что разграничивать личности в данном случае не совсем уместно), в автобиографии Грэндисон живо описано первое впечатление от приезда в Специальную школу для детей, говорящих с призраками; описание это, впрочем, мы слышим из уст человека со столь тонкой нервной организацией, что я, хоть и не являюсь экспертом, осмелюсь предположить, что Джейн Грэндисон страдала недиагностированной неврастенией. – Ред.
Тихий дребезжащий голос директрисы умолк. Медный раструб передатчика, похожий на диковинный гигантский цветок – Дельфийский оракул, иерофант – перестал вибрировать; механизм остановился. Лишь легкое шипение, доносящееся из глубин передатчика – организма, состоящего из молоточков слоновой кости, медной проволоки, каучуковых камер и бумажных перегородок, плотно приткнувшихся друг к другу внутри футляра красного дерева, подобно органам, занимающим каждый строго отведенное ему место внутри брюшной полости, – свидетельствует о том, что канал открыт, на моих глазах по-прежнему происходит чудо.
У меня есть минута, а то и больше, и можно собраться с мыслями. Ночь предстоит длинная. На все, что требуется, времени должно хватить. Но чтобы суметь исполнить свой долг, я должна понять, кто я. Когда я засомневалась в ответе на этот вопрос? Вероятно, еще в самый первый день.
Мне было одиннадцать лет, я могла написать свое имя задом наперед и зеркально, но не могла произнести его, и уже несколько раз видела мертвых. Меня не пугала перспектива услышать их. Так я и сказала тетке, когда та, притворившись удивленной, вручила мне письмо из Специальной школы Сибиллы Джойнс для детей, говорящих с призраками: «Мы рады предложить вам место… Полный пансион… Просьба ответить как можно скорее». Я поняла, что тетка решила избавиться от меня, и гордость велела мне ответить «да» в любом случае, но мое «да» шло от сердца. И сейчас, когда блестящий черный автомобиль, выглядевший слегка угрожающе и взятый нами напрокат в Спрингфилде, нес меня вперед к новому месту учебы, дыхание мое участилось, но не от страха, а от любопытства и предвкушения.
Машина наскочила на камень, и я схватилась за потолок. После Чизхилла дорога стала хуже, теперь она представляла собой две параллельные колеи. Моя сопровождающая – чопорная, мертвенно-бледная дама в траурном вдовьем одеянии – дважды постучала тростью по спинке водительского сиденья.
– Эй, вы! На нас места живого не останется!
Темно-коричневые, почти черные пальцы крепче схватились за руль.
– Надо обогнать грозу, мэм, – если дождь пойдет, я по этой дороге домой до завтра не вернусь.
И верно, ветер нес с собой запах ливня, а в просветах между кронами деревьев виднелись грозовые тучи, сгущающиеся над горами, хотя над нами все еще светило солнце.
– Грозу, говорите? Вы что же, дитя малое, грозы бояться? Заночуете в школе.
Водитель не ответил, лишь погнал быстрее.
Я говорила, что видела мертвых – так вот, то были моя мать и Битти. Обеих унес грипп. Отец умер задолго до того – Битти тогда еще грудь сосала. Сказать по правде, если бы они заговорили, я бы испугалась. Но я почему-то знала, что они не заговорят. И мне вполне хватало их молчания.
Я смотрела на проносившиеся за окном деревья сквозь свое неподвижное отражение. Оно угрожающе нависло надо мной – моя точная копия с тяжелым оценивающим взглядом. Я же упрямо смотрела сквозь него и впитывала все, что видела; все казалось необычным, чудесным, хотя само по себе было совершенно непримечательным – темные леса, затопленные поля, маленькое, заросшее камышами зловонное озерцо и одинокая цапля на перевернутой красной лодке с проломленным дном, готовящаяся взлететь. Я приподнялась на сиденье, словно тоже собиралась взмыть в небеса.
– Не ерзай, дитя.
Булавкой бы ткнуть эту мисс Тень, подумала я, устремив холодный взгляд на две булавки, которыми черная фетровая шляпа моей сопровождающей крепилась к прическе – длинные, с круглыми черными наконечниками. Не глядя на меня, мисс Тень неловко заерзала на сиденье, а я догадалась, что, как и моя тетка, спутница моя испытывала к цветным те же чувства, что к паукам и змеям: даже рядом с самыми маленькими представителями нашего рода ей было неуютно. Догадка эта ничуть не удивила меня; впрочем, и не обрадовала.
Я нарочно отвернулась к окну, но поскольку теперь сидела, откинув голову, взору моему не открывалось ничего интересного: только ветки, небо и мое отражение. Я была невысокой, тщедушной девочкой, темнокожей и несуразной, и отражение в стекле лишь подтвердило это. В жизни я достаточно насмотрелась в зеркала и не питала надежд. Надежд когда-нибудь стать красивой и заполучить все, что к красоте прилагается.
Не то, чтобы я была безобразна, нет; но на моем лице застыло унылое, жесткое, оценивающее выражение, не делавшее меня привлекательной. Впрочем, оно полностью соответствовало моей природе. Жизнерадостность была мне несвойственна.
С упрямством летящего на свет мотылька я смотрела в ту сторону, где, по моим расчетам, должна была находиться школа. Перед отъездом мне показали фотографию большого здания из черного камня; перед ним стояла высокая женщина с белым крупным мужским лицом, одетая в длинное черное платье, и выстроившиеся в шеренгу дети с черными повязками на рукавах; среди них были цветные, как и я. Мне сказали, что «девочка с такими выдающимися способностями», как у меня – я и не догадывалась, что у меня есть способности, тем более выдающиеся, – может учиться в школе бесплатно, и получать стол и кров. Сказать по правде, дополнительные удобства меня мало интересовали: я бы и за меньшие отправилась хоть в Монголию, хоть на Луну.
Мне казалось невероятным, что я вырвалась из теткиного дома, что наконец-то уезжаю. Заикание, причинившее мне столько бед, стало моим билетом на свободу.
Мне было всего семь лет, когда я впервые услышала Голос (так я его про себя называла). Тогда, после окончания карантина, я переехала в большой дом своих дяди и тети в Бостоне. Голос рычал и плевался у меня в глотке, а новые опекуны били меня ремнем для правки бритв, не зная другого способа исправить мой недостаток. Они добивались лишь одного: чтобы я слилась с бесцветной толпой их собственных детей, которых у них было шестеро или семеро. Увы, это не представлялось возможным. Во-первых, от других меня отличал темный цвет кожи – моя мать, как и тетка, была ирландкой, белой, как мел, но отец – черным. Тетка делала вид, что не замечает этого, но то и дело подсовывала мне отбеливающие кремы и зонтики – единственные предметы роскоши, которыми я обладала. Однако никто не стал утруждать себя попытками исправить мое заикание. Даже малышка Аннабель, ходившая в подгузниках, скоро сообразила, что, передразнивая меня, можно насмешить старших братьев и сестер и заслужить одобрительную улыбку взрослых.
Я до сих пор ее помню, хоть картинка уже начала блекнуть: топающие по паркету толстые ножки, подгузник из тонкой шерсти, скрепленный одной-единственной булавкой.
(«Моя шляпа!» – возмущенно воскликнула мисс Тень, когда автомобиль подпрыгнул на очередном ухабе, и дешевые перья смялись, ударившись о потолок. Она вынула булавки, осмотрела шляпу на предмет повреждений, положила ее на сиденье между мной и собой и стала придерживать жилистой рукой.)
Несмотря на издевки, я ни минуты не сомневалась, что со мной все в порядке, хоть у меня и не было причин так думать. Если бы я тогда подозревала, что заикание – это признак «редкой природной способности общаться с призраками» (о чем впоследствии мне сообщила мисс Тень), я бы гордилась этой своей особенностью, сколько бы надо мной ни насмехались теткины дети. Но я не знала об этом и пыталась бороться с Голосом. Тот неизменно побеждал. В моем детстве были периоды, когда я говорила, почти не заикаясь, а было время, когда я не могла произнести ни слова, и если полисмен на улице спрашивал у меня дорогу или учительница в школе просила назвать столицу Литвы, я оказывалась в довольно неловком положении. Я научилась обходиться жестами и звуками – показывала пальцем, мычала, не считая это ниже своего достоинства. Но нас отличает от животных способность говорить, и мне часто ставили это в укор; для окружающих я была не совсем человеком.
А в Специальной школе много таких детей, как я, есть даже те, кто заикается сильнее. Вот бы встретиться с теми, кто хуже меня. Есть там, наверное, такие, кто пускает слюни? Трясет головой и шипит, как гусь?
Дома – я имею в виду дядин и тетин дом в Бостоне – на стене висела картина. Когда-то она украшала стенку пчелиного улья в одной славянской стране; не знаю, как она попала к дяде с тетей и зачем они ее оставили. По соседству с мерцающим хрусталем, абажурами с бахромой и темной мебелью из отполированного до мягкого блеска красного дерева картина выглядела варварски, чужеродно. Грубое изображение женщины с разинутым ртом, из которого высовывается ужасающе длинный язык; точнее, не сам высовывается – его вытягивает громадными щипцами голый черт. Занятно, что человеческий язык словно настроен враждебно к главному органу речи; недаром мы пренебрежительно называем «язычниками» невежественных дикарей. С одного конца язык на картинке разветвлялся, и я приняла эти разветвления за корни, подобные корням дерева. В одной из моих книг мне попалось упоминание о том, как язык кому-то вырвали «с корнем», и с тех пор он представлялся мне чем-то вроде овоща, а не частью тела, занимающей в нем положенное место. Мой собственный опыт это подтверждал: у меня во рту росло нечто чужеродное, теплое и живущее своей жизнью. Поэтому изображенное на картинке казалось мне отчасти реальным, и в полудреме мое воображение рисовало страшные картины: если мой язык не вырвать с корнем, как морковку, он разрастется и займет еще больше места, зацветет и покроется семенами. На самом деле не язык, а Голос пророс в моей глотке, как сорняк, и не было щипцов, способных выдрать его. Но если и нашлись бы такие щипцы, то дьявол, ими орудующий, был бы женщиной с мужским лицом в черном платье.
Автомобиль снова подпрыгнул на ухабе, и стукнувшийся о грудь подбородок царапнула жесткая грубая ткань нового платья – прощального подарка тетки. Более любящая и любимая воспитанница могла бы обидеться, что ее так поспешно выпроваживают вон, но я была рада. О, как же я радовалась! Ненавистная тетка Маргарет. Ее ненавистные дети. Ненавистный дом. И ненавистная я, покуда оставалась в этом доме. Там я была плохой, злой, настолько злой, что при воспоминании об этом сглатывала комок в горле, пугалась себя и даже восхищалась собственным злонравием; но теперь я злой не буду. Я буду хорошей, такой хорошей, что никто никогда больше не выпроводит меня вон.
Шляпа мисс Тени так и лежала на сиденье рядом; черные наконечники булавок поблескивали среди перьев, как пара глаз. Шляпа следила за мной, проникала в мои мысли, а думала я о том, как легко было бы потянуться и всего двумя пальцами…
Мне пришлось вцепиться в сиденье двумя руками. Машину тряхнуло; она закачалась и снова подпрыгнула. Мисс Тень негодующе фыркала носом. Мы подъехали к самому разбитому участку дороги: водосточная канава вышла из берегов и залила путь, размыв глину между крупных камней. Мне стало любопытно, что станет с дорогой, если нас здесь застанет гроза, но уже в следующее мгновение я отвлеклась.
Внутри меня, в самой середине живота, что-то натянулось и надорвалось; я почти слышала треск разошедшихся швов, затем ощутила, как что-то мягко выскальзывает вниз. То ускользала моя прошлая жизнь, выпадая из меня, как закладка из старой книги. Переживания, еще недавно казавшиеся реальными, рассыпались в прах. Двоюродные братья и сестры, тетка, солонина с капустой, печаль, наваливавшаяся на меня, как медленная и неумолимая глухота – существовало ли все это на самом деле? Я охотно поддалась воле, которая была гораздо сильнее моей, и позволила увлечь себя к новому началу.

Документы
Мое детство
Следующий документ, предположительно написанный самой Сибиллой Джойнс, активно обсуждался в критической литературе. Я получил его в виде файла pdf от представителя Специальной школы на довольно позднем этапе своих исследований, когда уже перешел к составлению этой антологии. Впоследствии я обнародовал этот документ, снабдив его комментариями и представив как скромное, но все же, открытие. Разумеется, он произвел переполох, так как пролил свет на ранний период жизни директрисы, представив ее фигуру в новом и гораздо более интимном ключе. Мой авторитет в научном мире не оставлял сомнений, но после того, как документ приобрел канонический статус – а случилось это очень быстро, – ряд небольших анахронизмов в тексте начал вызывать вопросы научного сообщества, и в конце концов несколько крупных ученых пришли к единодушному выводу, что это подделка, и заявили об этом публично в ходе моего выступления в Гёттингенском университете по случаю вручения мне почетного звания, нанеся тем самым немалый урон моей репутации.
Залившись краской, все еще сжимая в руках пергаментный свиток с кисточкой (та непонятно как зацепилась за мои очки) и жалея о выпитом шампанском, я был вынужден тут же отстаивать подлинность документа, то есть, по сути, защищать свою репутацию честного ученого. Вместе с тем у меня засосало под ложечкой, и едва ли шницель с клецками был тому виной – то дали о себе знать мои собственные сомнения, возникшие, когда документ оказался у меня в руках.
Наконец группа ученых из Нидерландов попросила разрешения взглянуть на оригинал, написанный от руки, – то есть сделала то, что изначально следовало сделать мне. Спор разрешился мгновенно: оказалось, что оригинал написан шариковой ручкой. Как известно, Ласло Биро запатентовал шариковую ручку в июне 1938 года, а Джойнс скончалась задолго до этой даты. Я тут же деликатно пошел на попятную, не упоминая, как ко мне попал документ, дабы никого не обидеть. Но вопросы остались. Если я стал жертвой розыгрыша, какова была цель? Неужели представители Специальной школы не заинтересованы в моем проекте? И если так, зачем они пытаются казаться заинтересованными? Почему подделка настолько хороша в одном отношении (автор документа, несомненно, был прекрасно осведомлен о делах Сибиллы Джойнс и Специальной школы) и настолько плоха в другом (неужели сложно было раздобыть чернильницу и перо)? Наконец, как быть с тем, что подделка проясняет многие невнятности в документах, подлинность которых не оставляет сомнений? Стоит ли принять содержащиеся в ней сведения хотя бы как гипотезу, если не факт? Прочитав историю директрисы, пусть даже и поддельную, я почувствовал, что многое встало на свои места; узнав о подлоге, я уже не смог вернуться к прежнему восприятию. Вымысел присвоил себе факты; я больше не воспринимал их отдельно от вымысла.
Я поделился своими соображениями с научным сообществом, и после длительных обсуждений мы с опаской написали коллективное письмо представителям Специальной школы – настоящий шедевр деликатного иносказания, крайне тактичный запрос более подробной информации о происхождении спорного документа. Мы даже предположили, что представители школы сами стали жертвой фальсификатора, которым мог оказаться кто-то в их собственных кругах. Ответ пришел почти мгновенно, ошеломив и встревожив нас своей честностью.
Разумеется, документ современный! Его составили всего за несколько дней до того, как отправить мне! Директриса решила, что моей книге не повредит больше автобиографических сведений о ней, и поспешила их мне предоставить. Идет ли речь о новой директрисе? И да, и нет. Новая, старая – в контексте Специальной школы бессмысленно их разграничивать, ведь новая директриса и есть старая. Она продолжает занимать свой пост лишь до тех пор, пока ее устами говорит призрак Сибиллы Джойнс.
Это заявление не только дискредитировало документ, о котором шла речь, но и бросало тень сомнения на все якобы «исторические» материалы, которые представители школы присылали мне до этого. Но они этого не понимали. В ответ на мое беспокойство из-за возможных обвинений в плагиате мне присылали эмодзи, разводящие руками. Бессмысленно настаивать на верификации авторства, если «НИКТО из нас не является своим хозяином в полной мере» и «ВСЕ мы – не более чем рупор для мертвых». (Выделение заглавными буквами, как в оригинале.) Мне прямо заявили, что моя бессмысленная настойчивость свидетельствует о неверии в способность мертвых говорить, а значит, я рискую испортить наши отношения со Специальной школой и утратить доступ к бесценному источнику информации о ней.
И я пошел на попятную.
Для себя я решил, что этот документ хоть и является современным, сведения в нем правдивы, и я не стану исключать его из серьезных исследований, касающихся истории Специальной школы. Однако позволю читателю самому определить, кого сей документ характеризует лучше – старую директрису, новую или нас, ученых. – Ред.
С детства меня преследовала сильнейшая, инстинктивная уверенность в том, что я – не такая, как все. Однажды рядом со мной упала кость, отскочила от земли и чуть не ударила меня в голову; она как будто бы упала с большой высоты, но оглянувшись, я не увидела вокруг ничего, кроме старой лошади, щипавшей траву вдалеке, на краю поля. Значит, та кость была знамением – не от Бога, не от кого-то там, наверху, а просто знамением, сообщавшим, что я не такая, как все, и со мной будет случаться всякое странное. В другой раз колибри, нацелившись полакомиться бругмансией, сменила курс и вместо цветка доверчиво села мне на палец, обхватив его коготками. Я прежде и не догадывалась, что у колибри есть лапки, но теперь чувствовала их на своей коже и сумела хорошенько разглядеть и ее пульсирующую радужную шею, и хохолок с тонкими перышками, и жидкий блестящий глаз. Даже после того, как птица встрепенулась и вспорхнула, я продолжала ощущать ее теплое когтистое прикосновение, невидимым кольцом сжимавшее мой палец; я словно обручилась с этим невероятным мгновением. Не восторг я ощутила в тот момент, нет, а подтверждение своих ожиданий, того, что я знала и раньше: я окончательно утвердилась во мнении, что на свете есть чудеса, это и еще множество других, из которых состоит жизнь, как ожерелье состоит из нанизанных на шнурок разноцветных стеклянных бусин.
– Напомни, как тебя зовут? – спрашивает Сюзанна, а Мэри кашляет, закрыв рот толстой веснушчатой ладошкой. Сюзанна – моя соседка, живет за забором, отделяющим нашу зеленую лужайку от ее пожухлой, заросшей сорняками; через этот забор мы сейчас и переговариваемся. Отец Сюзанны работает на фабрике моего отца. Как и отец Мэри. Мэри знает, как меня зовут.
Дыхание в горле затвердевает и превращается в стекло; я давлюсь, пытаясь выплюнуть его, давлюсь снова и снова. Язык в передней части рта никак не хочет стоять ровно, приводя меня в бешенство; он тщетно колотится о зубы.
– Сссссс… – отвечаю я, но вряд ли это можно считать ответом.
Сюзанна склоняет набок сияющую золотистую головку, и я заливаюсь краской. Мне стыдно не только за невнятный звук, который я издаю – прерывистое шипение, – но и за волосы, прилипшие к шее, за ссадины там, где натирает платье, за указательный палец, на который я накручиваю юбку, словно желая задушить его. Мне стыдно за сам факт своего существования. Как будто моя истинная сущность проявилась из тумана и намеков лишь сейчас, когда мой неповоротливый, влажный, резиновый язык решил заявить о себе.
Мне так стыдно, что я не желаю больше оставаться собой. Я не испытываю никакого сочувствия к этой несчастной, лишь страх и отвращение. Судьи взирают на мой рот с пытливостью коронера, разглядывающего улики. Мне хочется подать сигнал, что я на их стороне, что я тоже настроена против себя. Но для этого нужно заговорить.
– Сссссссс…
Я наклоняюсь вперед, затем назад, склоняю голову вбок, как будто объясняю что-то сложное полными предложениями. Вытягиваю руку (вторая по-прежнему теребит юбку). Иногда мне удается убедить себя в том, что я уже говорю, и тогда слова начинают литься сами собой. Но сейчас трюк не срабатывает. Мне по-прежнему не удается вымолвить ни слова, я ничего не говорю; молчание, тишина – вот мое имя.
Девчонки хихикают. Открывается задняя дверь. Взвизгнув, они убегают.
– Иди в дом, Сибилла, – говорит отец.
Представьте меня девятилетней или десятилетней пухлой девочкой с кошмарными волосами. Жесткий цилиндрический лиф гнойно-желтого платья из органди собирается в складки под мышками, где уже растекаются темные круги пота; шелковые чулки сползли до самых туфель из свиной кожи. Я заикаюсь так сильно, что подбородок заливает слюна, поэтому чаще предпочитаю молчать. Мой дефект, а также высокое общественное положение родителей не располагает ко мне других детей; впрочем, и родители не питают ко мне особой нежности. Отец воспринимает мое заикание как личное оскорбление, а меня – ходячим (и притом молчаливым) упреком своим амбициям. Он-то, конечно, надеялся на сына – идеального наследника мужского пола, который однажды занял бы его место. Но вместо сына родилась я, и отец обвинял в этом несчастье мою слабохарактерную мать и ее неблагородную матку. Мать печально и молчаливо с ним соглашалась.

