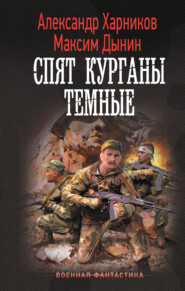скачать книгу бесплатно
Сегодня мне досталась целая куча «трудных» пленных – представьте себе, один из них оказался самым натуральным британцем, приехавшим в ДНР пострелять аборигенов. Ну, примерно так, как белый бвана приезжал в Африку для того, чтобы поохотиться на слонов и буйволов. Сам инглиз мне показался малоинтересным, но поработать с ним все же придется – вдруг через него удастся выйти на структуру, связанную с МИ-6. Самое же хреновое во всей этой истории было то, что наша разведгруппа при захвате пленных понесла серьезные потери – два «двухсотых» и «четыре «трехсотых». Кого теперь посылать в разведку? У нас в «Востоке» немало хороших парней, храбрых и верных. Но только этого для разведчика мало. Надо иметь острый глаз, терпение и умение нешаблонно думать. Ну и соответствующую физическую и боевую подготовку. Как в свое время говорил Григорий Котовский: «Нужно прежде всего победить себя, покончить со своими слабостями и недостатками. Необходимо так закалить волю и организм, чтобы заставить себя делать порой даже невероятное, на что не способны твои враги». Конечно, учить разведчиков приходилось, что называется, на ходу, в рабочем порядке. А это было чревато потерями, так как противник у нас был серьезный, и за ним стояли спецслужбы зарубежных стран.
Но только я разобрался с пленными, решил некоторые текущие вопросы и собирался уже завалиться на боковую, как ко мне подошел Вася.
– Товарищ майор, разрешите обратиться!
– Обращайся, – я устало махнул рукой.
– Товарищ майор, тут еще трое, они Ариадну нашу спасли.
– Понятно. А при чем здесь я? Спасли – и слава богу. Сразу видно – наши люди. Надо будет потом их поблагодарить…
– Наши, да не совсем наши. Тут они такое наговорили… Вот, почитайте, – И он протянул мне несколько листков бумаги – черновиков протоколов допросов. Я пробежал их глазами, затем вчитался и форменным образом офигел.
– Вы что там, совсем рехнулись?! Книг про попаданцев начитались и теперь верите во всякую ерунду?! Какие еще «ковпаковцы»?! Какие еще белые офицеры? А еще и тувинец… Его что, нам сам Шойгу прислал? Похоже, что реконструкторы какие-то решили в настоящую войнушку поиграть, и приперлись к нам…
«Впрочем, – подумал я, – вот что удивительно – участников рейда Ковпака или офицеров Белой армии среди реконструкторов пруд пруди, а вот тувинцев я еще ни разу не встречал. Посмотрю, какой такой тувинец – был у меня еще в учебке приятель – как его звали, уже даже не припомню, – зато кое-каким словечкам из их языка он меня научил. Я вообще любитель иностранных языков – от английского и немецкого до дари, пушту и чеченского. Учил, как правило, перед каждой командировкой. Только помогло мне все это, когда та мина взорвалась, ага…»
А что же касается реконструкторов… Кое-кто из них всеми правдами и неправдами пробирался на Донбасс, чтобы повоевать с потомками петлюровцев. Только вот большинство из этих самых реконструкторов довольно скоро начинали понимать, что здесь идет война, на которой убивают всерьез. И потому, «наигравшись», ряженые быстренько брали ноги в руки и сваливали подальше от фронта.
Больше всего на свете мне хотелось сейчас выпить чайку – именно его, алкоголь я употребляю очень редко в последнее время – и покемарить минуток так шестьсот. Ну, ладно, согласен на половину – лишь бы никто меня не будил. Ведь мне подкинули еще одну задачу – помочь Тагиру Халимову – еще одному моему бывшему сослуживцу – сформировать новую роту для батальона «Восток». Точнее, уже не батальона, а бригады. И мне совсем не хотелось тратить драгоценное время на неизвестно кого.
– Товарищ майор, вот только не похожи они на реконструкторов, – не отставал от меня Вася, – Может, вы сами с ними поговорите?
– Ладно, поговорю, – вздохнул я. – Сейчас только чуток почаевничаю, и минут через пятнадцать можешь их заводить. Только по одному – не всем скопом.
Первый, представившийся как сержант Тувинского эскадрона Кызыл-оол Тулуш, и правда оказался самым натуральным тувинцем. По-русски говорил с акцентом, но на удивление грамотно, хотя извинился, мол, «у нас в Кызыле мало говорят по-русски». Но то, что он воевал, мне стало ясно сразу – и то, что не «реконструктор», тоже. Более того, он представился кавалеристом, и об этом свидетельствовали кривоватые ноги и запах лошадиного пота – он так и не успел помыться перед тем, как его начали допрашивать.
А, как говорил мистер Шерлок Холмс: «Если отбросить невозможное, то оставшаяся версия, какой бы невероятной она ни была, соответствует действительности». Сказать, что меня это шокировало – это не сказать ничего. Но я не философ, я практик. И потому я прямо спросил его: не хочет ли он послужить в армии ДНР. Правда, для начала пришлось ему объяснять, что значит ДНР и с чем ее едят. Но как только он понял, что мы вновь воюем с наследниками нацистов, то сразу же попросился в наши славные ряды, в кавалерию. А узнав, что кавалерии у нас нет, без раздумий согласился послужить в пехоте.
Прежде чем его отпустить, я спросил его о том, знал ли он «ковпаковца» и «беляка» до Саур-Могилы. Оказалось, что нет. Я решил было, что в его случае мы несомненно имеем дело с чудом, но эти два – уж точно ряженые. Чуть подумав, я велел Васю привести «ковпаковца». Это было достаточно популярный типаж среди реконструкторов – подобным грешил даже мой младший зять, до недавнего времени ездивший почти каждое лето то на Черниговщину, то на Сумщину, а то и в Карпаты, дабы вспомнить о славных делах Сидора Артемьича.
Но ребята – приятели моего зятя – были похожи на старшего лейтенанта Студзинского – так назвался новый допрашиваемый – как болонки на матерого волка. Более того, то, чем он занимался, было мне знакомо, хоть моя специальность была, так сказать, смежной. И мне очень скоро стало ясно, что и он в самом деле тот, за кого себя выдает. Вот только как он попал сюда?! Становилось все чудесатее и чудесатее…
На мой вопрос, не хотел бы он служить у нас, старлей сразу же согласился, тем более, в отличие от кавалериста Тулуша, я записал его тем, кем он был во время Великой Отечественной – разведчиком.
«А ведь так мне удастся пополнить свою разведгруппу, – подумал я. – Тувинец и ковпаковец – готовые разведчики с фронтовым опытом. Надо только поднатаскать их в умении разбираться в здешних реалиях, и можно смело отправлять их на задание. Ай да молодца – это я о себе. Нашел-таки выход из сложного положения!»
Но беседу я свою еще не закончил и поинтересовался у Студзинского, сможет ли он поручиться за двух своих спутников. Старлей, немного подумав, сказал следующее:
– Настоящие они, товарищ майор, даю вам честное комсомольское. Что Таныш – так мы называем Кызыл-оола, что Андрей Фольмер. Хотя, конечно, мы с ним были бы на Гражданской по разные стороны баррикад. Но мне подсказывает чуйка, что ни один, ни другой никогда нас не предадут. Тем более поручик любит петлюровцев и их наследников ничуть не больше, чем я УПА.
И вот, наконец, я познакомился с поручиком Фольмером.
30 июля 2014 года, Донецкая Народная Республика, село Марьяновка.
Поручик Фольмер Андрей Иванович
– Значит, как вы говорите, вас зовут? – задумчиво произнес человек лет примерно сорока пяти или пятидесяти, в униформе с разноцветными разводами (как мне объяснили, она называется камуфляжкой, и носят ее здесь многие, даже цивильные и женщины).
А угодил я сюда не без помощи Ариадны. Она, попав к своим, похлопотала за нас, и мы оказались в отдельном помещении, а не вместе с украинскими пленными. Кормили нас вполне сносно, сказать по-честному, я и на фронте не всегда так питался. А то, что меня и моих спутников весь день допрашивали, так я на это не обижался – у нас в полку поступили бы точно так же, тем более, то, что мы рассказывали, было весьма и весьма странным и непонятным. Я бы, например, не поверил ни одному нашему слову.
На вопрос моего визави – а его мне сегодня задавали уже несколько раз – я терпеливо ответил:
– Да, я поручик Андрей Иванович Фольмер, место моей службы – Вооруженные Силы Юга России, 13-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Слащева. Во всяком случае, до недавнего времени я служил именно там.
– Расскажите немного о себе, – устало сказал человек в камуфляжке.
На этот вопрос я тоже уже сегодня отвечал несколько раз, но набравшись терпения, снова начал свой рассказ:
– Родился я в Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Родители мои – Иоганн Себастьян Фольмер и Анна Паула Фольмер, по-русски Иван Евгеньевич и Анна Иосифовна. Мое имя при рождении – Андреас Ойген Фольмер. Этим именем меня крестили в евангелическом храме Святой Анны на Кирочной.
– И где вы там жили, на этой самой Кирочной?
– В доходном доме Бака. Это тоже на Кирочной. Знаете, такой, с балконами и крытыми галереями между корпусами. У него еще две такие симпатичные башенки.
– А какая там станция метро поблизости?
Такого вопроса мне еще не задавали, и я посмотрел на моего визави с недоумением:
– Метро, господин…
– Можете называть меня «товарищ майор».
– Когда меня допрашивали в Севастополе, товарищ майор, такой комбинации – товарищ и майор – и вообразить было невозможно. Ну не любили большевики ни офицеров, ни звания. Впрочем, и звания такого – майор – не существует в русской императорской армии с восьмидесятых годов прошлого – девятнадцатого – века. Но вернемся к метро – метро я знаю по Парижу, был там с родителями в двенадцатом году. Это в тысяча девятьсот двенадцатом, – вспомнил я, что уже на дворе две тысячи четырнадцатый. – Метро было во французской столице, и в Лондоне, который мы тоже посетили, оно называлось андерграунд, а вот в Петрограде ничего такого не было. Ходили слухи, что, дескать, не мешало бы построить подземку в Москве, но они так и остались слухами… Рядом с нами была церковь Козьмы и Дамиана – храм лейб-гвардии Саперного батальона. Там еще стоял памятник саперам, погибшим во время войн – парящий бронзовый орел над гранитным постаментом.
– Теперь там уже есть метро, – устало произнес майор. – А вот ни храма, ни памятника нет. Впрочем, продолжайте, поручик.
– Учился я сначала в Анненшуле, там же, при кирхе. Потом, в 1910 году, родители неожиданно приняли православие, и меня перевели в русскую гимназию…
– Расскажите лучше про свою военную карьеру.
– Я закончил ускоренные офицерские курсы в 1915 году и оказался в 8-й армии генерала Брусилова в чине прапорщика. Участвовал во взятии Перемышля, за храбрость (хотя какая там храбрость – просто мне повезло) был досрочно произведен в чин подпоручика. А потом было Великое отступление.
– Слыхал о таком, – покачал головой майор.
– В шестнадцатом году участвовал в Луцком прорыве – его еще именовали Брусиловским. Тогда же получил чин поручика и орден Святого Георгия четвертой степени. После февральского переворота остался в армии, тогда же был награжден Георгиевским крестом третьей степени – согласно решению Временного правительства, офицеры могли получать солдатские медали, а солдаты – ордена. В декабре того же года часть наша была расформирована, и я оказался в Киеве, где в восемнадцатом году примкнул к генералу Федору Артуровичу Келлеру. Но как вам, возможно, известно, Скоропадский вынудил графа уйти в отставку, а после бегства гетмана с немцами пришли петлюровцы и убили как самого генерала, так и множество других русских офицеров.
– А каким образом спаслись вы?
– После отставки графа Келлера я решил не ждать у моря погоды, а податься к генералу Деникину. Воевал у него и у генерала Врангеля. Последние боевые действия были на Перекопе, потом нас отозвали в Севастополь и объявили о скорой эвакуации. Я оказался одним из тех, кто поверил большевистским листовкам и решил остаться в городе – не тянуло меня ни в Турцию, ни в Европу. Я был расстрелян в ноябре двадцатого года вместе с офицерами армии Врангеля, поверившими в амнистию, объявленную большевиками. Как я попал сюда, не знаю – полагаю, не обошлось без Божьего промысла.
– Понятно, – майор встал со стула, потянулся и несколько раз прошелся по комнате. Я заметил, что он слегка прихрамывает. – Ну что ж, как бы странно это ни звучало, но я вам верю – будь вы «засланным казачком», то наверняка придумали бы менее фантастическую легенду. Да и сумасшедшим вас тоже никак не назовешь. К тому же я немного знаю Питер и вижу, что вы действительно жили в нем в начале двадцатого века. Что же касается боевого опыта, то у вас его хоть отбавляй. Опыта командования, как я понял, тоже вполне достаточно. Не хотите ли продолжить службу в рядах ополчения Донецкой Народной Республики?
– Хочу. – Я встал и взглянул в лицо допрашивающего меня майора. – Вот только опыт у меня, скажем так, столетней давности. Ну, почти. Я не знаю ни ваших уставов, ни новых тактических приемов, ни вашего оружия.
– Поэтому-то я и хочу предложить оставить вам звание старшего лейтенанта – он примерно соответствует поручику царской армии – и должность заместителя командира вновь сформированной роты батальона «Восток». Ваши солдаты почти все служили в армии – кто в советской, кто в украинской. Командовать ротой будет человек с опытом войны в Афганистане – не удивляйтесь, в советское время мы успели повоевать и там. Я, кстати, тоже побывал «за речкой». Старший лейтенант Студзинский также будет служить в вашем батальоне, только в разведке. Сержант Тулуш останется с вами – будет заместителем командира разведвзвода. Он вообще-то хотел попасть в кавалерию, да только у нас нет таковой, от слова совсем…
– То есть как это нет? – удивился я. – А как же вы воюете-то?
– Времена изменились, товарищ старший лейтенант. Впрочем, вы сами все увидите. Завтра получите обмундирование и снаряжение, какое найдется – уж извините, с запасами амуниции у нас плоховато. И отправитесь туда, где вы оказались в наше время – на Саур-Могилу. Вот только для вас будет лучше, если вы больше никому не станете рассказывать, откуда вы здесь появились и как сюда попали, чтобы вас потом не упекли в донецкую лечебницу для душевнобольных…
2 августа 2014 года. Донецкая Народная Республика. Старший лейтенант Фольмер Андрей Иванович, бригада «Восток»
Моя служба в народном войске началась с того, что один из здешних воинов, представившийся прапорщиком Тарасом Москаленко, повел меня на склад, чтобы, согласно приказу господина, пардон, товарища майора, экипировать и вооружить волонтера, то бишь меня. Прапорщик был хмур и неразговорчив. Видимо, мой внешний вид не располагал его к задушевной беседе.
Я, в свою очередь, даже не пытался побыстрее завязать с ним знакомство. Гражданская война – это такая штука. А у них тут идет форменная гражданская война. Единое государство, именуемое Союзом Советских Социалистических Республик (ну и названьице!), как когда-то Российская империя, распалось на несколько мелких, которые часто враждовали друг с другом. Как мне рассказывали мои сослуживцы по ВСЮР[7 - Вооруженные силы Юга России – так называли части, воевавшие против Красной армии под командованием генерала Деникина и барона Врангеля.], нечто подобное уже происходило в этих местах. Большевистская армия Кривдонбасса[8 - Так попросту называли созданную в феврале 1918 года большевиками Донецко-Криворожскую советскую республику.] жестоко воевала с немцами и австрийцами, в обозе которых околачивались ряженные под гайдамаков отряды УНР.
Надо сказать, что хотя мы и были против большевиков, но эти убогие придурки, гордо называвшие себя казаками и гордившиеся гетманом Мазепой, предавшим царя Петра Великого и переметнувшимся к шведам, вызывали у нас еще большее омерзение.
И вот история повторилась. Снова под знаменами Мазепы его последователи начали войну против России. Причем зверствуют они и сейчас так же, как это делали их предки. Помню, поручик Григорьев из моего взвода рассказывал, как по приказу Центральной Рады в Киеве был схвачен брат известного большевика Григория Пятакова, Леонид Пятаков, который, кстати, тоже был отъявленным большевиком. Ротмистр Украинского гусарского полка Журавский со своими живодерами жестоко с ним расправились. Его не расстреляли, не повесили, а, вволю поглумившись, предали лютой казни. На груди, на месте сердца потом обнаружили глубокую рану, просверленную, очевидно, шашкой, а руки Пятакова были совершенно изрезаны. Похоже, что у него, еще живого, вырвали из груди сердце, и он конвульсивно хватался за клинок сверлящей ему грудь шашки. Да, гражданская война – самая страшная из всех войн. И не дай бог стать ее свидетелем, а тем более участником. Как там Пушкин писал в «Капитанской дочке»: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка…»
На складе мне выдали странную пятнистую униформу, мало похожую на парадный мундир, но, как я убедился, весьма удобную в носке. Она была далеко не новой, но хорошо постиранной и не рваной. Заглянув в какую-то бумагу, неразговорчивый прапор выдал мне звездочки, которые я сам должен был прикрепить на матерчатые погоны.
А вот обуви моего размера не нашлось. Но я и не унывал – незадолго до того, как большевики и их приспешники-махновцы прорвались в Крым, мои сапоги, в которых я воевал еще до большевистского переворота, окончательно износились, и я пошел по рекомендации одного моего сослуживца к еврею-сапожнику в Армянском Базаре. Еврей, как и положено, был в ермолке, с пейсами, в черном костюме. Я бы ни за что его не узнал, если бы он низко не поклонился и воскликнул:
– Господин офицег, помните меня?! Я Ицик из Мелитополя. Вы спасли меня и мою семью от петлюговцев!
– Здравствуй, Ицик. Сделаешь мне сапоги?
– Сделаю, господин офицег, за бесплатно сделаю. Самые лучшие.
– За бесплатно не надо, а вот если будет подешевле, буду тебе весьма благодарен.
Через три дня сапоги были готовы – мягкая, но прочная кожа, легкие, но ноские, нигде не жмет… И взял он с меня раза в три меньше, чем они реально стоили – да и то лишь после того, как я пригрозил их не брать, если он откажется от денег. Так что менять их на другие я не торопился.
А вот визит в здешний арсенал стал для меня чем-то вроде посещения пещеры сказочного Али-Бабы. Какого только оружия там не было! Одна загвоздка – знакомых мне винтовок и пистолетов там не оказалось вообще, ни наганов, ни трехлинеек, ни даже берданок.
Прапорщик еще более посмурнел – в глазах его читался немой вопрос: «Как же вы воевали до сих пор, товарищ старший лейтенант?» Подумав, он выдал мне пистолет ТТ и автоматический карабин АК- 74, после чего дотошно объяснил мне, как ими пользоваться, как их разбирать-собирать и как их чистить.
– Пойдемте в подвал, там у нас оборудован тир, – сказал он. – Заодно и попробуете их.
Пистолет оказался неплох, хотя мне больше нравится наган. Зато чудо-оружие – произведение неизвестного мне Калашникова – очаровало до глубины души, хотя сначала мне не показался более легкий патрон, чем у знакомой мне «мосинки». Но тридцать выстрелов и возможность стрелять очередями, как этакий облегченный пулемет… Да, выстрелов было «всего» тридцать – более чем достаточно для одиночного огня, зато для стрельбы очередями очень мало. Да и задирало ствол вверх при длинных очередях.
– Хорошо вы стреляете, товарищ старший лейтенант, – с некоторым уважением сказал мне прапорщик. – А теперь я покажу вам ваше место в казарме. Впрочем, долго вы там все равно не задержитесь – послезавтра вам следует быть уже на фронте.
На следующее утро я познакомился со своим новым командиром, капитаном Тагиром Халиловым. Капитаном – и это несмотря на то, что на его погонах были один просвет и четыре маленькие звездочки, как у штабс-капитана. Хан (такой у него был позывной) мне сразу понравился – было ясно, что боевого опыта у него хоть отбавляй. Я запросил у него устав, что его несколько удивило, но он распорядился мне их выдать. «Их», потому что в число обязательных уставов входили целых четыре.
– И это, – сказал капитан, – только общевоинские уставы: устав гарнизонной службы, устав внутренней службы, дисциплинарный и строевой уставы.
Я взял для начала строевой и проштудировал его от корки до корки. Мне очень повезло с памятью – я могу один раз прочитать книгу или даже список формул и запомнить все более или менее дословно. А устав был вполне разумным, хотя многое в нем было непонятно – я, конечно, слыхал про танки, но в наше время это были огромные ромбовидные английские сундуки, либо маленькие французские «Рено FT» образца 1917 года. Но это ладно, а что такое, например, гранатомет на станке? А тем более бронетранспортер?
Поэтому я попросил, чтобы меня заодно познакомили и с имеющимся вооружением – танков и бронетранспортеров, как мне сказали, в части не было («вот отобьем их у укропов, тогда будут»), зато мне очень понравились гранатометы и минометы (у нас на фронте я встречал что-то похожее, только назывались они бомбометами), да и ручные пулеметы были неплохими. Вот только было их маловато – всего два ручных пулемета на всю роту и ни одного станкового.
А вчера у нас был первый бой. Гранатометчики из своих РПГ сработали на «очень хорошо» – подбили два бронетранспортера «азовцев», а вот ручных пулеметов нам явно не хватало, и как мы удержались на позициях, одному Богу известно. Я не выдержал и пошел к капитану Халилову с вопросом, нельзя ли где-нибудь раздобыть хоть один нормальный пулемет, пусть даже самый завалящий. Тот подумал и сказал:
– Нет у нас, Фриц (такой у меня теперь был позывной), ни одного. Впрочем… Отбили мы намедни один такой у «азовцев». Но это знаешь, какое еще старье – «максим» образца девятого, что ли, года.
– Тысяча девятьсот десятого, – поправил я.
– Может, и так.
– А где он?
– Спроси у прапорщика Москаленко.
Помню, как в офицерской школе я много раз разбирал и собирал этот агрегат для массового убийства. А потом, уже на фронте, под наблюдением унтер-офицера из пулеметной команды, научился налаживать и даже чинить сие громоздкое и тяжелое – весил он без малого четыре пуда – оружие. «Максим» мог выпускать до шестисот пуль в минуту, но требовал тщательного ухода за собой и часто беспричинно начинал капризничать, словно избалованная гимназистка.
– Он в подсобке, – сказал мне Москаленко. – Только что с ним делать? Пробовали наладить – ни хрена не получилось.
– Покажите, может, у меня чего получится.
Москаленко открыл неприметную дверь и провел меня в чулан. Пулемет стоял у стены. Я внимательно осмотрел его и понял, что он вполне исправен, но нуждается в наладке. Не считая это для себя зазорным, я часто помогал нашей пулеметной команде приводить в порядок «максимы». Поэтому, попросив у прапорщика инструмент, я занялся хорошо знакомой мне работой. И через полчаса уже докладывал Хану:
– Товарищ капитан, пулемет «максим» готов к бою. Если найдутся еще, отремонтирую и их.
Халилов пристально посмотрел на меня, покачал головой и сказал:
– Благодарю вас, товарищ старший лейтенант. Вот только, если можно, скажите мне правду. Из какого времени вы к нам попали?
2 августа 2014 года. Саур-Могила.
Старший лейтенант Студзинский Михаил Григорьевич, разведка батальона «Восток»
– Шнель! Шевели ногами, скотина, ферфлюхтес швайн! – Я толкнул в спину дулом автомата жирдяя в щегольской форме с нашивкой на рукаве связанных сзади рук, на которой был изображен один из нацистских символов, а над ним надпись «Азов».
«Азовец» что-то промычал в ответ – рот ему мои ребята заклеили клейкой лентой, и получилось не хуже, чем если бы его заткнули кляпом, – но покорно поплелся дальше, прибавив скорости. А сержант Женя Панченко, он же Ланжерон, сказал мне со смехом:
– Что-то вы ему все время по-немецки говорите, товарищ старший лейтенант. Только он, наверное, такой же хохол, как и я.
Надо будет ему поставить на вид, подумал я, в разведке я не «товарищ старший лейтенант», а Кашуб – такой себе выбрал позывной. Да и какой Женька, к такой-то матери, хохол? Родился и вырос в Одессе, прошлой зимой учился в Киевском университете, и даже, по его словам, «пару раз ходил на майдан» – так, оказывается, именуется теперь площадь Калинина из моего времени. Там, по его рассказам, были ежедневные антиправительственные бесновалища. Но после пары визитов он понял, что с теми, кто туда ходил, ему было явно не по пути. А окончательную точку над его пребыванием в «матери городов русских» поставило массовое сожжение людей в Одессе, где погибло почти пятьдесят человек, в том числе и кто-то из Жениных знакомых. Что меня больше всего поразило в этом рассказе, это то, что убивали безоружных людей самые настоящие нацисты, как и то, что их новая власть в Киеве не тронула, зато арестовала тех, кто выжил в этом огненном аду.
Именно тогда он прибыл в городок под названием Славянск, где небольшой отряд ополченцев всего с одним орудием больше месяца держал оборону. Только когда возникла опасность полного окружения, защитники города скрепя сердце ушли в Донецк. Женю – теперь уже Ланжерона – вывезли в санитарной машине, и он провел больше месяца в больницах Донецка. А почему в «больницах»? Да потому, что первую обстреляли и частично разрушили «укропы» – так здесь именуют украинских националистов. А тех, кто уцелел, перевели в другую больницу.
В Славянске он и попал в разведку – и хоть ему не хватало знаний, опыт он приобрел бесценный, и служил не на страх, а на совесть. Но вот дисциплина у него, однако, еще хромает – пусть мы у Сидора Артемьевича были и партизанами, но там все было обставлено так, что кадровые военные позавидуют. И звания у нас были, как в армии. Во всяком случае, того хаоса, которого я вдоволь насмотрелся под Харьковом в сорок втором, там и в помине не было.
Родился я в станице Луганской, в семье отставного казачьего урядника Ивана Степановича Апостолова, в тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Мама, Ариадна Ивановна Левченко, была из местных «иногородних». В двадцать пятом отец скоропостижно умер – как сказал фельдшер, по причине старых ран, полученных еще в Империалистической войне, да и, что уж греха таить, и во время Гражданской.
А в двадцать шестом мать вышла замуж за Григория Леопольдовича Студзинского. Он был из померанского Лауэнбурга, воевал в составе кайзеровской армии, потом попал в русский плен. Когда произошла Революция, он поступил на службу в Красную армию, да не просто в армию, а в 5-ю армию, которой командовал товарищ Ворошилов. Вместе с ним он отступал под Царицын, где познакомился с товарищем Сталиным. Потому-то, когда на иностранцев стали коситься, и на отчима в НКВД какая-то сволочь настрочила несколько доносов, он написал Клименту Ефремовичу в Москву, и больше к отчиму никто с дурацкими вопросами не приставал.
Григорий Леопольдович заменил мне отца и дал мне фамилию и отчество. У мамы было шестеро детей от первого брака, не считая меня, и еще трое от второго. Я не знаю, что с ними теперь, ведь старшие братья и одна моя сестра ушли в армию, а младшие братья и три другие мои сестры остались на оккупированных территориях.
Сам же я закончил ускоренные командирские курсы и был послан взводным в 987-й полк, и успел поучаствовать как в наступлении под Харьковом, так и попасть там в окружение. В плен я сдаваться не собирался, но выйти из-под Харькова мы сумели лишь на северо-запад, где и наткнулись на отряд, которым командовал Сидор Артемьевич Ковпак. Проверяли нас там – как же без этого, – а потом сказали, мол, парень ты отчаянный, а нам как раз разведчики нужны. Не хочешь ли попробовать себя на этом поприще? Так я и стал разведчиком.
Довели мы обоих «языков» до расположения наших, и я сорвал ленту, которой был заклеен рот того, кто мычал, словно больная корова. Тот неожиданно встал в позу и заверещал:
– Jestem obywatelem polskim i wymagam telefon do konsulatu[9 - Я польский гражданин и требую, чтобы мне дали возможность связаться с консульством Польши.].
Вот так вот, ни больше, ни меньше.