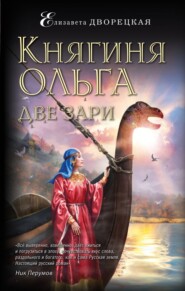скачать книгу бесплатно
– Горючая ты кукушечка моя… Не бойся. Медвяну приведу – она мертвого с того света достанет. Эх, Етон, Етон… ушел сам в Навь и все счастье-долю нашу, видать, унес. Жди, зоренька моя. Я тебя не оставлю. Хоть сами боги отступились от тебя – я не отступлюсь. Вот что, – Воюн выпустил ее из объятий и опять повернулся к русину. – Есть у меня кое-что…
Он развязал огнивицу на поясе и вынул кусочек тканины; развернул, достал что-то маленькое и протянул Стенару.
– Возьми. Перстень сей дорогой, сам князь наш, Етон, моей дочери на имянаречение подарил. Обещал даже жениха привезти ей, как подрастет, – да не дожил. По дружбе тебе дарю, только будь нам другом. Побереги мою дочь, покуда я вам ведунью доставлю.
Стенар взял перстень, повернулся к свету лучины. Блеснуло серебро, тонко замерцала крученая золотая нить… Обещана вздрогнула: жаль было княжеский дар, который всю ее жизнь казался залогом какой-то особой, доброй и щедрой судьбы… Не русу, а жениху она должна была его передать – тому, какого сам князь ей назначит.
– Не жалей! – шепнул ей отец. – Не принесло счастья нам серебро Етоново.
– Добро. – Узнав знакомую работу, Стенар надел кольцо на средний палец – ему как раз впору пришлось – и кивнул. – Будем ждать до последнего, а до тех пор никто ее не тронет. Но и ты уж не мешкай…
Воюн снова обнял Обещану, и она поняла: сейчас он уйдет. Отстранившись, отец погладил бахрому у нее на лбу, оправил намитку, заушницы с нанизанными на кольца стеклянными желтыми бусинами. Хотел что-то сказать, но передумал.
Только когда отец, еще раз кивнув ей от двери, ушел, Обещана догадалась развязать верхний пояс и снять кожух. В голове стоял звон, но не отпускало ощущение, что ей известно еще не все.
Где же все-таки Домушка? Почему она, курица глупая, не спросила отца о нем?
Подняв глаза, она вдруг встретила взгляд Стенара. Он так и стоял на прежнем месте, засунув пальцы за пояс, и смотрел на нее с таким выражением, будто знал о ее судьбе больше нее самой. На правой его руке мерцал золотой нитью Етонов обручальный перстень…
* * *
Уже стемнело, когда Воюн вновь завидел впереди родной Укром. В санях под медвежиной спала Медвяна – его сводная сестра. На первый взгляд Воюна и Медвяну легче было принять за отца и дочь, чем за брата и сестру. Их общий отец, Благун, взял вторую жену уже после того, как женил сыновей от первой, и Медвяна была моложе брата лет на двадцать пять. Однако кое-что общее было у них в очертаниях лба и в разрезе глаз, так что их родство угадать было нетрудно.
Отдав лошадь с санями сыну в городце, Воюн отослал его, а сам вместе с Медвяной пошел по расчищенной тропе к дальнему холму, где между двух оврагов располагалось укромовское святилище. Свои называли его Бабина гора или просто Гора. При нем частокола не было – вокруг площадки шел только невысокий вал, сейчас менее заметный под снегом. От Укрома туда вела тропа, и сам же Воюн следил, чтобы ее расчищали по мере надобности. Всякий день по этой тропе семенили женки, прижав к груди укутанные горшки с кашей или похлебкой, каравай в ветошке. Отроки возили волокушами дрова и хворост. Правда, пищи и топлива постоянным обитателям Горы требовалось немного.
Тропа вела к проему вала, вход обозначали воротные столбы, издали хорошо видные на белом снегу. На верхушках столбов были вырезаны головы: одна бородатая, другая с гладким лицом. Это были Дед и Баба: по великим дням Деда покрывали шапкой, а Бабе повязывали платок, и так они встречали своих далеких правнуков, приходящих к ним с дарами и угощением. Сейчас Дед и Баба спали, однако Воюн и Медвяна почтительно поклонились их неподвижным лицам. В самой их неподвижности был залог того, что деды берегут внуков день и ночь, зиму и лето, из года в год, из века в век… Ты проходишь, а они все стоят. Когда Воюна малым дитем мать приносила сюда на руках, Дед и Баба вот так же стояли и смотрели на него. Он стал седеющим мужем, отцом взрослых детей – а они не изменились.
Две обчины с внутренней стороны вала были, напротив, довольно новыми: десять лет назад их построили заново, взамен обветшавших и ставших слишком тесными. Напротив ворот, в дальнем конце площадки, стояли три деревянных идола – в середине Макошь, самая высокая, по сторонам от нее Перун и Велес. Их тоже «оживляли» по великим дням, одевая в нарочно сшитые «божьи сорочки», но сейчас убором им служил только белый снег. Не приближаясь к ним, Воюн и Медвяна свернули от ворот по узкой, проложенной двумя парами ног тропке, что вела к двери в ближнем к воротам конце обчины. Более широкая дверь к большому очагу находилась в середине строения, а здесь был отдельный закут со своим оконцем.
Воюн осторожно постучал в дверь. Выждал и постучал еще.
– Отец! – крикнул он. – Это я, Воюн. Не спишь? Отвори! Дело пытаю, не от дела лытаю!
Слегка стукнул за дверью засов, створка приоткрылась наружу. Повеяло густым теплом. Внутри было совершенно темно.
– Спал я уже, – низким, надтреснутым голосом произнесла темнота. – Заходи, да засвети огня. Кто это с тобой?
– Это я, батюшка, – Медвяна поклонилась. – Будь цел.
Они вошли и закрыли дверь. Медвяна осталась на месте, а Воюн осторожно, чтобы не наткнуться на хозяина, прошел к печи и запалил лучину от углей. Закут осветился. Вставляя лучину в светец над лоханью, Воюн обернулся и еще раз поклонился. У двери стоял невысокий, ниже него, совершенно седой старик с длинной бородой. Лицо его, несмотря на морщины, имело очень ясное выражение, лоб, довольно гладкий, был таким белым, словно на него постоянно падал особый луч. Голубые глаза сохранили удивительную яркость – будто два кусочка неба, принесенные тем самым лучом. И выражение на лице старика было не стариковское – радостное ожидание, будто в каждом он видел любезного родича, чьего появления давно ждал.
– По здорову ли, батюшка? – Медвяна подошла и поцеловала его.
– И тебе. – Старик с явным удовольствием принял ее поцелуй, а потом с улыбкой спросил: – А ты кто, красавица?
– Я – Медвяна, дочь твоя младшая, – спокойно пояснила та. – От Негосемы, второй жены твоей. У меня три брата меньших: Зорян, Стужак и Весень. Они со мной живут.
– А! – кивнул старик. – Как домашние? Матушка здорова?
– Она семь лет как умерла, батюшка.
– А муж? Детки?
– И муж мой умер, и детки. – Медвяне нередко приходилось рассказывать отцу об этом, и в голосе ее не слышалось печали. – Троих мне Макошь послала, троих и назад прибрала, да и мужа за ними увела. С братьями я ныне живу.
– Ну, ничего! – Благун потрепал ее по плечу. – Ты баба молодая, найдется еще другой муж.
Медвяна только улыбнулась. Ее мать умерла еще не старой женщиной, лет тридцати с небольшим. И, видно, унесла последние остатки удали мужа. После ее смерти Благун, до того бывший крепким, как старый дуб, одряхлел и согнулся, стал терять память, зато глаза у него сделались такие, будто через него смотрит на родичей само небо. Ясно было, что дух его уже в Нави. С тех пор он жил на Горе, храня ее покой, и покидал священное пространство только в Велесовы дни Карачуна, когда духи дедов и чуров посещают дома живых.
Воюна Благун видел очень часто и его обычно помнил.
– С чем пожаловал-то, сынок? Я уж было спать наладился.
– Прости, отец, что потревожил. Да дело у нас, до утра не могу ждать. Нужно нам… у Зари-Зареницы помощи попросить. У золотого ее веретена. Обещанка… – Воюн хотел было сказать, что дочь его опасно больна, но все же решил не лгать живому чуру, – к чужим людям она в руки попала. Исцелить нужно… русина одного, иначе грозит Обещанку на тот свет с собой забрать.
– Это как? – изумился Благун.
– Русь пришла на Горину. Не наша, а киевская. В Драговиже побоище случилось. Да пусть Медвянка делом займется, а я тебе все расскажу.
Медвяна тем временем зажгла другую лучину от первой и скользнула в дверь, ведущую из дедова закута в большую обчину.
За дверью было холодно, почти как снаружи – в большой обчине огня не зажигали с самого Карачуна. Здесь стоял тот особый холод застоявшегося воздуха, что бывает в давно нетопленных помещениях и кажется даже сильнее того, что снаружи, где есть ветер и солнечный свет. Пройти сразу дальше Медвяна не решалась, хотя знала это место с рождения. Всякий раз, если она приходила сюда одна, ей требовалось постоять и убедиться, что здесь все недвижно и тихо. Что деды и бабки не сидят невидимо за длинными столами, толкуя о делах. Что она никому не помешала… С годами ощущение их незримого присутствия у Медвяны усиливалось – сейчас оно было больше, чем в детстве, в отрочестве или во время замужества. Видимо, смерть мужа, отворившая ей дверь на тот свет, отворила и разум ее.
Но вот она прошла к очагу между двумя рядами столов и лавок, лучиной подожгла заготовленную под дровами берестяную и соломенную растопку. Отодвинула ближайшую заслонку, чтобы выходил дым. Зажгла от лучины глиняный каганец на столе, взяла его и ушла в дальний конец, где у верхнего края стола находился чуров очаг в окружении трех небольших идолов. Эти три все были женские. На велики-дни одному повязывали платок, другому намитку, а третьему надевали цветочный венок с косой из лучшего вычесанного льна.
– Матушки наши, простите, что не вовремя потревожила вас, – прошептала Медвяна чурам. – Беда случилась. Самая лучшая из дев рода нашего чужим людям в руки попала. Нужно вызволить ее, а для того исцелить русина раненого. Помогите мне силу Макоши и Живы призвать, золотую нить спрясть, науз соткать.
Она положила к подножию каждого из трех идолов по кусочку хлеба, взятого из Благуновой избы. Еще раз поклонилась, прислушалась.
По сторонам очага стояли большие резные лари, где хранились «божьи сорочки», всякая утварь и лучшая посуда для священных пиров. Медвяна, дочь бывшего старшего жреца и сестра нынешнего, знала там каждую вещь – она же на всякий велик-день доставала нужное, готовила, потом обмывала и убирала до следующего случая. Но то, что Медвяна искала, было не там. Не уловив никаких возражений от матерей рода, она обошла очаг, встала на колени и откинула черную овчину на полу. Показалась широкая дубовая доска. Медвяна просунула в щель лезвие поясного ножа и приподняла ее.
В земле оказался спрятан еще один ларь, и его не так-то легко было бы найти чужакам, окажись они здесь. Медвяна вынула сначала клок чисто-белой шерстяной кудели, уже вычесанной и готовой для прядения, отделила часть и положила к подножию чура-старухи. Потом вынула веретено и положила к чуру-матери. Последними появились старинные ножницы черного железа – их Медвяна вручила чуру-деве.
Потом немного помедлила, собираясь с духом. Богини получили орудия, чтобы участвовать в ее работе, но главное она должна сделать сама. Ей было разрешено прикасаться к величайшему сокровищу рода, но тревожили его редко. На Карачун обычно баба Поздына, самая старая в Укроме, доставала веретено Зареницы и пряла нить на счастье-долю всех гориничей в предстоящем году. А помимо этого к святыне прикасались только по очень важным поводам – для отвращения больших общих бедствий.
Вспомнив, как спешил всю дорогу Воюн и как жаждет поскорее вернуться в Горинец, Медвяна заторопилась. Вынула из подземного ларя нечто длинное, завернутое в кусок удивительной тканины – греческой паволоки, алой, как заря, вышитой потускневшим золотом. Положила себе на колени и развернула.
В куске шелка лежала довольно длинная тонкая палочка, в свете каганца сиявшая чистым золотом. Это было веретено, в локоть длиной, ничем не отличавшееся от обычных, деревянных, но только обернутое в тончайший золотой лист. Как подобное сокровище, единственное на свете, попало в Укром – об этом было целое предание, и никто не сомневался: золотое веретено, точь-в-точь такое, как прочие золотые и серебряные вещи из небесного чертога солнца, когда-то бывало в руках богов и от них перешло на землю. У Медвяны дрожали пальцы, когда она к нему прикасалась. Все внутри переворачивалось от мысли, что здесь, в этой темной клети, у нее на коленях лежит настоящий кусочек небесной силы. Это было почти то же, что прикоснуться к руке божества… Макоши, судениц, Зари-Зареницы.
Из-за спин идолов Медвяна достала прялочную столбушку с лопаской и вставила ее в отверстие на краю скамьи. Прикрепила на лопаску кудель – от белых овец, вымытую, вычесанную. И заговорила, будто рассказывая дивную сказку – самой себе, трем матерям рода, что стояли перед ней в деревянном обличье, стенам старой обчины и тем сотням незримых слушателей, чье присутствие здесь она всегда так ясно ощущала.
На море-окияне, на острове Буяне,
Лежит бел-горюч камень,
На том белом камне стоит серебряный стул,
На серебряном стуле сидит Заря-Зареница, красная девица,
Подпоясана золотым поясом,
Подперта золотым посохом…
Медвяна не то говорила, не то напевала, убаюкивая саму себя. Это хорошо получалось у нее с детства: она сама первой засыпала, когда качала зыбку с кем-то из меньших братьев. И немедленно начала видеть то, о чем пела: тьма вокруг налилась золотом и багрянцем летней зари, и там, где только что стоял липовый идол Макоши, потемневший от долгих лет, сухой и молчаливый, уже виделась ей живая юная дева со светлой косой, с голубыми очами, блестящими и яркими, как кусочки неба. У этой девы было лицо Обещаны – Зари укромовского рода.
Она прядет золотую нить,
Берет золотую иглу,
Зовет-призывает к себе сестер своих,
Зарю Утреннюю и Зарю Вечернюю.
Ой вы сестры мои, Заря Утренняя и Заря Вечерняя!
Вы берите золотую иглу,
Вдевайте золотую нить,
Зашивайте раны кровавые
Унерада, Ву-е-хвас-това сына…
Медвяна очень старалась не сбиться, произнося непривычное имя русина. А пальцы ее ловко и привычно тянули белую тонкую нить, нить скользила на веретено, пляшущее с глиняным прясленем на нижнем конце, и правая ее рука уходила все дальше от столбушки, по мере того как растягивалась нить.
Они зашивают, приказывают:
Черная птица, болезнь-трясовица,
С железными когтями, с черными крылами,
С тоской тоскучей, с болью болючей, с бедой бедучей —
Отцепись от Унерада, Вуехвастова сына!
Ты, железо, поди прочь, отстань,
А ты, кровь-руда, течь перестань!
Она шьет-расшивает,
Кровавые раны зашивает.
Тянет нить от восхода до захода,
Та нитка обрывается, кровь-руда унимается…
Такие заговоры, как колыбельные песни, можно было тянуть сколь угодно долго, повторяя с небольшими изменениями одни и те же слова, обращаясь к божествам с новыми восхвалениями с теми же самыми просьбами. Медвяна считалась даже среди старших баб великой искусницей по этой части, но не знала за собой заслуги: заговорные слова сами цеплялись одно за другое, как волоконца шерсти, она лишь выпевала голосом то, что видела перед собой.
Но вот Медвяна замолчала, будто очнулась, и посмотрела на веретено. Если начинаешь прясть, перестать трудно: нитка сама тянет за собой, и страшно оторвать ее, будто с этим оборвешь саму судьбу. Но она напряла достаточно, и ей еще немало работы предстоит.
Не хотелось останавливаться, выходить из того алого с золотом сияния, чтобы снова идти в зимнюю ночь… Но ведь сама Заря-Зареница каждое утро именно так и делает, вдруг осенило Медвяну. Она выходит в ночь, в холод, полный чудовищ, и собой освещает путь солнцу. И никто не может посветить ей – в том и состоит ее божественная суть, что свет позади нее, а не впереди. Лишь одна верная подруга поджидает ее во тьме – Утренняя звезда, чтобы Зареница видела, что она не одна на небокрае…
Убрав золотое веретено назад в подземный ларь, Медвяна вынула оттуда в мешочке десяток небольших дубовых кругляшков с двумя отверстиями в каждом и стала разматывать спряденную нить…
Уже настало утро, хотя за оконцем еще висела плотная тьма, когда вновь скрипнула дверь между Макошиной обчиной и Благуновым закутом. Благун сидел у стола; он спал ночью мало, вполовину меньше обычных людей. Воюн, видимо, только проснулся: он сидел на лавке, на расстеленном постельнике, и, зевая, продолжал говорить:
– Я сам чуть не поседел там – смотрю, на реке войско целое, да все в железе, шлемы, щиты! Уж сколько раз мы слышали, как по земле Деревской Марена погуляла! И у нас древляне живут, и в Плотвицах, и в Новинце! Выходит, не ушли они от беды своей, а нам ее на плечах принесли!
Увидев Медвяну, он прервал речь и встал.
– Готово! – Медвяна показала смотанный тонкий шнур, выкрашенный в бледно-красный цвет и еще не вполне просохший. – Ох, я умаялась!
– Давайте вы каши поешьте! – Благун встал. – Мне вчера бабы принесли горшок – одному в три дня не управиться.
И торопливо двинулся к уже растопленной печи – погреть кашу. Не имея других дел, бывший старейшина и старший жрец приноровился ловко вести хозяйство в избе, не хуже любой бабы.
Когда начало светать, Воюн простился с Медвяной перед воротами Укрома. Ему пора было заняться другими делами, а она отправилась туда, где ее с таким нетерпением ждали. Несговор, один из братаничей Воюна, уже сидел в санях. Устроившись, Медвяна как следует укуталась в медвежину, преклонила голову на свой короб с зельями и ветошками – и тут же заснула. Так и поехала, уже сонная, не слыша прощальных напутствий старшего брата…
* * *
Отец уехал, и только теперь, казалось, Обещана узнала настоящее одиночество. Она пришла сюда, в Горинец, против воли, она вовсе не хотела оставаться среди русов, этих чужих, опасных людей – но отец, заботливый и любящий, из числа лучших мужей волости, не имел власти забрать ее отсюда. Обещана мерзла от этого ощущения полного бессилия и бесправия; сидела, обхватив себя за плечи, но едва могла унять стук зубов.
– Зазябла? – окликнул ее Будиша. – Стрёмка? Ты чего спишь, угрызок? Изба простыла, а тебе нужды нет!
Стрёма молча встал и пошел за полешками. Обещана пересела ближе к печи, но здесь ее потянуло заплакать – будто тепло нагретых камней растопило источник слез в груди.
– Стенар… – позвал Унерад с лежанки. – Здесь ты?
– Я здесь. – Стенар немедленно поднялся и подошел к лавке.
– Стенар… – Унерад глубоко вздохнул. – Поклянись мне…
– Что?
– Если я насовсем ослепну… ты мне поможешь умереть.
– Что ты на тот свет торопишься? – невозмутимо ответил Стенар. – Туда не опоздаешь. А тебе куда спешить, молодой еще. Подумаешь, одного глаза не будет! Другой-то останется! Все у тебя есть – род знатный, отец уважаемый, матушка мудрая, дом изобильный… Жены вот только нет… не было. Да у нас для тебя и жена теперь есть.
Стенар обернулся к Обещане, но она не сразу поняла, почему он на нее смотрит. Русин сделал ей знак подойти, и Обещана повиновалась, все еще не понимая, при чем здесь она.
– Вот, готовая для тебя невеста. – Стенар взял ее руку и положил на грудь Унераду. – Красавица шестнадцати лет, красивая, как… как гривна золота. И она твоя навсегда теперь, – он слегка похлопал по руке Обещаны, лежащей на груди раненого, горячей и немного влажной из-за жара. – Ты будешь жить – и она с тобой будет жить, ты умрешь – и она с тобой на одно смертное ложе уляжется.
И взглянул на нее, давая понять, что ей эти слова предназначены так же, как и Унераду.
Обещана взглянула на него округлившимися глазами. Что он такое несет? Если Унерад выживет, то она домой воротится, к мужу! Они ведь так с отцом ее договорились? Да и кто мужнюю жену за другого сватает?
Но не посмела возражать. Наверное, Стенар обманывает раненого, чтобы тот не думал о смерти… К чему Унераду гибели искать, даже если он ослепнет? Он ведь богач, его дед большим воеводой был. Ему и без глаз горя мало – челядь оденет, обует, накормит, будет сказки сказывать да песни петь, чтоб не скучал. Да и жена сыщется: родовитый да богатый – и слепым будучи, тоже жених…
Как ни нелепы ей показались Стенаровы речи, Унерада они позабавили.
– Скажешь тоже! – Он почти усмехнулся. – Женил уже… сват… Это какая девка? Что вы из Драговижа привезли?
– Она рода знатного – ее отец в здешней округе старший жрец. И сама красавица, дева ловкая, умелая, приветливая. Уж и перстень обручальный приготовлен, вот он у меня. – Стенар снял с собственного пальца старый Етонов дар и вложил в ладонь Унерада, чтобы тот мог его пощупать.
Тот сжал перстень в ладони и слабо засмеялся, немного задыхаясь. Если болтовня Стенара о женитьбе имела целью поднять дух раненого, то успеха он добился. Страдая от боли, плохо соображая в жару, Унерад не задавал вопросов, почему это он вдруг должен жениться на невесть откуда взявшейся местной девице, с чего это десятский собственной дружины взялся сватать его полуживого, без ведома отца и матери. Сама мысль о свадьбе, как о высшем проявлении жизненности, зацепилась в мыслях и служила опорой, не давая соскользнуть во тьму. Казалось, он плывет через огненную реку, а когда одолеет – на том берегу ждет его новая жизнь и краса-девица. Нельзя умирать – жениться надо, невеста ждет…
Но Обещана, благо Унерад ее не видел, даже не пыталась улыбнуться.
* * *
– Стенар, ты здесь? – крикнул от двери Стрёма, оружничий. – Зелейница приехала, которую Воюн прислал.
Услышав имя отца, Обещана повернулась к источнику дневного света, но увидела не его, а Медвяну. От радости, что теперь есть кому пожаловаться, на глаза запросились слезы.
– Да вы родня! – заметил Стенар, глядя, как Обещана кидается на шею гостье.
У него был зоркий глаз: поначалу во внешности этих двух женщин были заметны только различия, и лишь потом проступало сходство. Сбивали с толку ярко-рыжие брови Медвяны, обилие веснушек, из-за чего вся ее кожа казалась золотой, и яркий, как у многих рыжих, румянец на немного впалых щеках. Очень похожи были глаза – ярко-голубые, над высокими скулами. А увидев это сходство у Благуновых потомков, легко было заметить одинаковой разрез глаз и очерк лица. Но если Обещана в свои шестнадцать так и излучала здоровье и бойкость, то Медвяна, на десять лет ее старше, не шагала, а скользила, как золотистая тень.
– Дочь брата моего эта кукушечка горькая! – ответила Медвяна, обнимая Обещану. – Цел будь, боярин.
– Я не боярин, я десятский его. Боярин вон лежит. Так ты сестра Воюна?