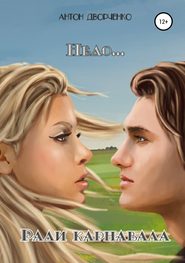скачать книгу бесплатно
– Не могу ответить тем же. Вы благоразумно не протягиваете мне руки. Давайте поскорее покончим с формальностями.
(О'Салливан – продолжая улыбаться)
– Чай? Кофе? Сейчас несколько рановато, но, может быть, капельку шерри?
(Локхарт)
– От вас я ничего не приму. Перейдем к делу.
(О'Салливан)
– Прекрасный деловой подход, мистер Локхарт! Вы принесли необходимые бумаги?
(Локхарт)
– Нет, но не беспокойтесь.
(О'Салливан – перестав улыбаться)
– Не понимаю вас, мистер Локхарт.
(Локхарт – выходя из себя)
– Что, прихвостень шакала, хочешь, чтобы я преподнес тебе деньги моего отца на блюдечке? А ты после этого, виляя хвостом, помчишься к хозяину за косточкой? Вот тебе на блюдечке! На! Забирай!
(Выхватывает из портфеля небольшую тарелку, швыряет на нее пачку банкнот и толкает на другой конец стола О'Салливану)
(О'Салливан – возмущенно)
– Мистер Локхарт! Перестаньте паясничать! Имейте мужество проиграть достойно! Что вы мне подсовываете!?
(Локхарт – слегка успокоившись)
– Остатки моего состояния. Примите их и избавьте от необходимости пребывать в вашем обществе.
(О'Салливан – угрожающе)
– Мистер Локхарт, что это еще за фокусы? Я знаю размер состояния вашего отца до последней монетки! Лежащая передо мной сумма не составляет и сотой доли! На что вы рассчитывали, придя ко мне с этой смехотворной подачкой? Имейте в виду – наша встреча записывается и запись будет использована в суде!
(Локхарт – невнятно)
– Я и рассчитывал…
(О'Салливан)
– Что вы там бормочете?
(Локхарт)
– Ничего. Тем не менее, я говорю правду. Поверьте, у меня больше ничего нет.
(О'Салливан – подняв обе руки и глядя вверх)
– Послушайте, мистер! Видит Бог, я хотел быть с вами милосерден. (Опускает руки, презрительно смотрит на Локхарта) Но за вашу беспардонную выходку, за ваши грязные, безосновательные обвинения моего клиента, клянусь, я выкачаю вас досуха, отниму последнюю рубашку, заберу все, что смогу забрать, добьюсь, чтобы вы были повергнуты в прах и никогда, слышите, никогда не смогли бы из него подняться, не будь я Грегори О'Салливаном!
(Локхарт)
– Правильно ли я понял, что вы официально отказываетесь принять предложенное мной?
(О'Салливан)
– Да! Да! Решительно, абсолютно и бесповоротно да! Увидимся в суде, мистер Локхарт! До скорой встречи!
(Локхарт – со странным выражением лица)
– До встречи! (усмехнувшись) – Не трудитесь провожать. (уходит)
__________
Приложение 3.
Документ, выброшенный С. Локхартом на выходе из офиса Г. О'Салливана.
Ксерокопия подтверждения банковского перевода #5689-KX12
Получатель: Ху Лян Цинь, КНР, пр. Хэйлунцзян, г. Харбин, уезд Мулань, ул. Мулань, 114.
Плательщик: Стивен Грэнвилл Локхарт, Великобритания, Бристоль, Метфорт-роуд, 8.
Сумма платежа: 750 тысяч фунтов стерлингов.
Назначение платежа: Приобретение коллекционного китайского фарфора династии Мин – 1 предмет.
Июль 2010
Жили-были…
Главное, что обидно – я старшому не раз говорил: не цепляйся к старику. Его и так уже жизнь потрепала крепко-накрепко.
По молодости-то старик славным рубакой был. Другой на его месте начнет какую-нибудь заваруху со скуки – на белом коне с сабелькой серебряной, султаном дареной, покрасоваться. А как до дела дойдет – баста! Воюйте, воеводы верные, а мне в терем пора – не ждут дела государевы, неотложные. А дел-то, ежели взаправду, всего два: мед хмельной, да девки румяные, баловницы.
Старик не такой был. Соседей забавы ради не задирал, но, если уж приходилось меч в руки брать, то спуску им не давал. Да и меч его, тяжеленный двуручник, был из доброй стали, без дорогих украшений и рун иноземных. Становился частенько старик в самую первую шеренгу, в простой кольчуге. Один раз, говорят, даже на поединок выходил. Поединщик с той стороны стал насмехаться, мол, бабы у тебя, а не воины, выставить некого, самому биться приходится. Старик в ответ молча взмахнул мечом. С виду легко, словно на пробу. И ударил-то всего раз… Потом вытащил меч из побледневшего насмешника и пошел обратно к своим, не оглядываясь. Тем поединок и кончился. А с ним и битва.
Со временем число охотников потягаться со стариком поубавилось. Потом и вовсе на нет сошло. В ту пору родился у него сын. С имечком у первенца, правду сказать, советники, звездочеты, да прочие прихлебатели намудрили – натощак не выговоришь. То ли Каш-, то ли Кауш-чего-то там, а потом еще слогов шесть-семь. Вроде Победоносный, а может, Вечноживущий, или еще что – тут доброхоты, каждый со своим гримуаром, не сошлись во мнениях. Однако старик спорить не стал, а сына звал всегда просто – старшой. Потом, года через три, я на свет Божий появился. А еще через год – мелкий.
Ко времени, как третий сын начал по двору носиться, как угорелый, захворала маманя наша, слегла и больше уж не поднялась. Каких только лекарей старик ни приглашал… Потом знахарей, ведунов, старушек-шептуний, у которых заговоры на всякий случай жизни и смерти припасены. А там уж, знамо дело, до чернокнижников рукой подать. И в недобрый час нашептали доброхоты съездить попытать счастья на край земли, к колдуну в Серых горах, дальше которых только лед да небо. Имени того колдуна никто не помнил, так давно жил он на белом свете. Жил, когда дед старика еще совсем молодой был. Чем согревался и что ел на голых скалах, где ни травинки, ни живности какой отродясь не бывало – неведомо. А еще более неведомо было, чем дело обернется, когда о помощи попросишь. Кому и поможет, кого просто прогонит с глаз долой, а кого проклянет, да так, что иные в омут головой – чтобы быстрее отмучиться. Потому, если ходили к колдуну с просьбой какой, то в самом крайнем случае. Когда уже все одно, помирать или, авось, вывезет.
Взял старик друзей своих верных, с ним не раз огонь, воду и медные трубы прошедших, да отправился в путь неблизкий. И сгинул.
Маманя наша мужа своего, даром, что обещалась, не дождалась. За несколько лет с отъезда старика тихо стаяла, как свечка.
Старшому тогда двенадцатый год минул. Но ростом он вышел не по годам. Ратному делу смальства учился. Со стариковским двуручником еще, пожалуй, не управился бы, но обычным мечом рубился – любо-дорого посмотреть. Дружина за старшого – в огонь и в воду была готова. С той поры и стал править старшой сам, несмотря на малые лета. А когда вернулся старик – первенцу его девятнадцатый год шел.
Оно и по малолетству норов у старшого крутой был. А без старика, без руки его железной и вовсе испортился. Никто супротив слова сказать не мог. А кто и мог – тех нету давно. На колу али в темнице сгнили. Да и нам, братьям единоутробным, не больно-то сладко жилось. Мне еще не так туго приходилось, если сравнить. А мелкому доставалось ей-ей. И когда он, причудам старшого подчиняясь, в шутовском наряде с бубенцами среди ночи плясал, словно дурак придворный. И когда спал он, неделями, словно пес сторожевой, у брата в палате на полу, подле ложа. Когда на четвереньках ходил, под столом объедками питался. Когда побивал его старшой, забавы ради, то кулачищами своими пудовыми, то палкой, а как в раж входил, то и сапогами.
А мелкий только улыбался своей странной мягкой улыбкой. И, казалось, никакой злобы к брату не питал.
До потехи с Марьюшкой.
Славная была деваха. Тихая, да улыбчивая, даром, что сиротка. Смальства – то на кухне стряпухам помогала, то подмести-прибраться, то еще чего. Без дела никогда не сидела. А если и выпадала ей минутка свободная, всегда рукоделие какое наготове было.
До поры удавалось ей со старшим разминуться. Бог хранил, кухарки да служки подсобляли. Когда наденут дерюгу рваную, да мордашку углем мазнут. Когда и вовсе с глаз долой на дальний выпас отправят.
Как ее мелкий приметил, как влюбиться успел, я и не углядел. А когда случайно узнал… И уговаривал я его, и грозил карой старшого. Даже денег давал на побег. Ведь ежу ясно, не обрадуется брат наш, когда узнает, на кого мелкий глаз положил. Не умом – сердцем знал, что добром не кончится. А мелкий даром, что в дураках у старшого ходил, дураком и стал. Я, говорит, честь по чести хочу – женюсь, мол и точка. Чтобы все по обычаям. Осерчает старшой – стерплю, не впервой, а бегать и прятаться всю жизнь не буду. Поругались мы тогда с ним крепко – пока старик не вернулся, почитай, десятком слов не перемолвились.
А старшой удивил всех. Как нашептали ему про голубков неразумных, приказал привести обоих под очи свои царские. Брату кивнул едва, а Марьюшку оглядел не спеша, с ног до головы, кругом обошел, не поленился. Лицо, фигуру долго разглядывал. Потом как заржет. Отсмеявшись, хлопнул в ладоши, да приказал назавтра же свадьбу сыграть. Подарил невесте, честь по чести, ларец изукрашенный. С бусами, с перстнями, с серьгами, с гребнем костяным. Да, в придачу, с главным сокровищем – маленьким зеркальцем, из дальних краев привезенным. Жениху пожаловал шубу с плеча царского. И отпустил обоих с миром. Да напоследок напомнил про право первой ночи. Замялись, было, мелкий с Марьюшкой, посмотрели друг на друга, не зная, что ответить. Старшой и говорит, ты же сам, мол, хотел, чтобы все по обычаю. Переглянулась парочка влюбленных еще раз. Мелкий краской налился, аж уши светятся. А невеста побледнела, глянула еще разок украдкой на суженого. Потом кивнула, едва заметно. На том и порешили. До завтрашнего утра свадебного отпустил старшой дурака своего потешного, брата младшего, на все четыре стороны с напутствием в каморке своей прибраться да невесте подарок сыскать. А Марьюшке назвал срок, к которому она прийти должна. Мелкий, счастью своему скорому не веря, на дальний кордон поскакал, диковину какую-то, одному ему ведомую, раздобыть. Обещался вернуться завтра до полудня, и – только пыль столбом.
Что случилось дальше, доподлинно не знал никто. Только бабки по углам шушукались, что слышны были ночью крики женские, жалобные. Да гогот пьяный, с песнями похабными. И что голосов тех было не два и не три – самого старшого и дружков его верных, самых распутных и бедовых. А Панкратьевна, кухарка старая, которой не спалось в ту ночь, божилась, что перед самым рассветом, увидала она Марьюшку идущую походкой странною и поздоровалась с ней. Но та шла, ее не замечая. А как заглянула старушка в лицо девушке, так чуть речи не лишилась.
Правда то была, али неправда, да только нашли Марьюшку, как совсем рассвело, в ближнем омуте.
Я, по правде сказать, испугался за мелкого – мало ли какую штуку тот выкинет. То ли на старшого с ножом кинется, то ли просто повесится. Но мелкий, как вернулся, да увидал невесту свою, прошел с белым, ни кровинки, лицом в свою комнатушку, упал на ложе… И не поднимался, в жару и бреду, почитай, месяца три. А как стал иногда выходить во двор – все одно, словно тень, а не человек. Ни улыбки, ни слезинки. Бледный да худой – в чем душа держится. И замолчал. Не то, чтобы совсем онемел, но, почитай, три-четыре слова в неделю многовато будет.
В ту пору и старик вернулся, незнамо откуда. Ни с того ни с сего, свалился, как снег на голову. Оборванный, седой, морщин на лице – едва признать можно. Ни коня, ни доспеха, ни спутников верных. Лишь осанка по-прежнему царская. И вот, что чудно – ни один караул, ни дальний, ни ближний его не видал. Как он через заставы прошел явные да тайные – до сих пор неведомо.
Старшой, понятно, не обрадовался, опасаясь, что старик снова самолично править станет, а его в опалу. Но и получаса не прошло, как выяснилось, что беспокойство напрасным было – выжил гость нежданный из ума. Сперва, только доложились, что старик, почитай, через минуту в терем зайдет, спал с лица старшой. Однако быстро себя в руки взял. Плащ свой парадный накинул, улыбку на лицо приклеил порадостнее, вышел во двор – встречать. Уже и руки раскинул для объятий.
Да старик, не дошедши до старшого десятка шагов, запнулся, словно наткнулся на стену каменную. А потом, тихо бормоча что-то под нос, вовсе бочком-бочком отходить стал. После остановился, палец послюнявил, ветер проверил – с какой стороны дует, принюхался, жадно, со свистом забирая ноздрями воздух… И пошел напрямки, как по струне, через огороды и кустарник к домику, где маманя наша померла, его не дождавшись. Домишко с той поры заколоченным и простоял. Старик оторвал доски с двери одним широким, как рубаху от ворота, движением, зашел внутрь, да там и обосновался. Либо сидел безвылазно, каракули чудные на бересте царапал, разговаривал сам с собой какой-то околесицей. Либо травки-муравки собирал по окрестным лесам – щепки да мусор всякий. После – то в веники небольшие связывал и развешивал на просушку, то в костер кидал, да на дым глядел, пока глаза не покраснеют. А то узоры странные выкладывал. Глянешь на тот узор – вроде бы красиво, только тревогой какой-то веет. А еще, чем дальше, тем больше во время занятий своих смурнел лицом старик. В первые недели еще, случалось, пробегала по его лицу тень улыбки – когда, скажем, утро выдалось погожее, и ветерок теплый ласково по лицу гладит. Но вскоре только сильнее хмурились стариковы брови на загорелом лице, да лоб, и без того изрезанный морщинами, бороздили все новые складки.
Старшой, как увидал, что опасности от старика никакой, стал время от времени над ним подшучивать. Не то, чтобы там постоянно изводил, как мелкого в свое время, но исподтишка пакостил регулярно. Я его одергивал, конечно, когда замечал, но, понятно, с опаской. Это ж, как ни крути, старшой. Встанет не с той ноги, и неважно, есть на тебе какая вина или нет, брат я ему там или кто – кивнет молодцам своим – и загнешься в порубе с голодухи, али сразу рыбам на корм…
Со временем старик вылазки свои в лес прекратил, сидел, носа на улицу не показывая. Но ведовство свое не бросал – наоборот, по слухам, даже спал урывками по часу, по два. И вот, в одну ночь, на всю округу раздался треск и грохот ужасный. Подскочил я спросонья. Не сразу и сообразил, в какой стороне гремит. А как прикинул – сразу понял, что со стороны развалюхи стариковской. Помчался туда, ног не чуя…
Домишки не осталось – дымились лишь обгоревшие руины двух стен, с одного из углов. Остальное – даже не в труху, не в угли, а в пепел сгорело. Как будто дракон дыхнул огнем от души.
Уже потом, вспоминая ту ночь разнесчастную, понимал я, задним умом, что впору было удивиться мне, и не раз. Во-первых, раскат грома с молнией (все-таки драконов у нас отродясь не водилось) никого, кроме меня не разбудил. И, пока не выскочил я на улицу, бежал по пустым коридорам. Да и во дворе уже должен был сбежаться народ. Пускай не из любопытных зевак, но уж караульные-то! Во-вторых – молния молнией, а дождя за всю ночь так ни капли и не пролилось. Да и день вчерашний был тихим, безветренным, и на небе чисто и пусто, как у праведника в келье. А уж в-третьих-то, сам Бог велел удивиться, когда в нескольких саженях впереди меня разглядел я бегущего мелкого! Он и днем-то из каморки своей нечасто вылезал на свежий воздух, а уж ночью…
Но это я после таким внимательным стал. Тогда же, следом за мелким, запыхавшись, выбежал я к пепелищу – и увидел в чудом уцелевшем углу дома неподвижно лежащего старика…
И склонившегося над ним старшого.
Умирающий стонал, хрипел и шептал что-то яростно, но неразборчиво. Потом взор его обрел ясность. Когда он вгляделся в наши склонившиеся лица, горькая усмешка скривила ему рот, и молвил старик: «Слетелись, сыночки мои верные, стервятники ненасытные. Прав, значит, колдун оказался, во всем прав. Да и сам чую, пробил мой час… Ну раз все в сборе, вот вам мое напутствие отцовское…»
Старшому сказал: «Тебе, сильному, да наглому, посмевшему свою кровь своей кровью попрати, своей кровью и попрану быти! А до той поры не возьмет тебя ни меч, ни стрела, ни зелье отравленное!»
Мелкому: «Ты, слабак, сильным станешь, да не в радость окажется сила твоя. Будешь кровью умываться – не умоешься, напиваться – не напоишься, наедаться – не наешься!»
Мне же досталось: «Ну а ты, серый середнячок, ни первый, ни последний, ни сильный, ни слабый. Серость, она серость и есть. Ничего не сделал ты для крови своей. За то искать тебе, серому, до последнего дня своего красну девицу, что кровью укрывается!»
Зубами напоследок заскрежетал, глаза закатил – с тем Богу душу и отдал.
__________
Большую часть из этого я помнил, хоть и смутно. Остальное – спасибо мелкому – вспоминал по частям вечерами у костра. После того, когда он меня, раненого, в лесу чудом признал, да выхаживал неделю. Потом-то я уж, понятное дело, пообвыкся. Но проснувшись в то, первое утро после старикова «благословения» толком понять еще ничего не успел.
Поляну, на которой очнулся, видел я первый раз в жизни. Уже после, через пару месяцев блужданий вышел я к знакомым местам, но в жизни бы не нашел обратной дороги. А в то утро… Шутка ли – перед глазами плывет все, нос запахи щиплют крепкие, до боли. Голова трещит, как после недельной гулянки. Спотыкался, опять же на каждом шагу, с непривычки. Чему ж тогда удивляться, что и глазом моргнуть не успел, как задней лапой в капкан попал. Добро, хоть не медвежий. Одно спасло – силушкой Бог, все же, не обидел. Извернулся я, на пружину поднажал, да и освободился. А вот как лапу помятую вылизывать стал, вот тут-то меня, как обухом по темечку и долбануло. Понял я, про какого серого старик перед смертью толковал. Как-то само вышло – брякнулся я на задние лапы, голову кверху задрал и завыл. Хорошо завыл, от души. Пока в ушах не зазвенело. И вот, что забавно: вроде и не изменилось ничего, а полегчало маленько и в голове прочистилось. Стал думу думать, и ничего лучше не надумал, что надо как-то к людям выбираться. Считал, наивный, что объяснить про себя как-нибудь объясню. А там к знахарю какому отведут… Сомневался, конечно, что все так гладко сложится. Но любая цель хороша, лишь бы мысли всякие от себя гнать и по новой от страха не выть, да с досады жгучей об землю не биться.
Первым делом, где зубами, где лапами, сорвал я остатки одежды, чтобы бегать сподручнее. Кроме гривны золотой на шее, от которой так избавиться и не удалось. Как выяснилось, к лучшему. Я, когда до мест знакомых, наконец-то, добрался, на радостях и сунулся, дурак, в первую же деревню. Встретили меня знатно. Я и так-то бегать не мастак был – нет-нет, и запутаюсь в лапах, что твой кутенок. А после капкана еще и прихрамывал. В общем, еле улизнул тогда. Попытал счастья в другой деревушке – тоже самое. До третьей я не дошел – нарвался на стрельцов. Позже мелкий растолковал, что из первой же деревни послали старшому гонца, мол, объявилось в лесу чудище – вроде волк, да ростом мало не с коня. Посмеялся сперва старшой – у страха глаза велики. Но когда из другой деревни весточка пришла, призадумался, прикинул направление, да и разослал по окрестностям стрельцов – в засаде посидеть, чудище подстеречь. Вот и подстерегли.
Я и в тот раз убег, да напоследок вдогонку стрелой достали. Застряла в спине – не вытащить. Тут-то мне и повезло, что не смог гривну снять. Наткнулся я в лесу на мелкого. У меня уж к тому времени от раны жар пошел, в глазах все плыло. Думал – блазнится перед смертью всякое. А мелкий увидал на мне украшение знакомое, понял, кто перед ним, и не добил, а выходил. А второй раз понял я, как повезло мне, когда растолковал братец младший, что бы приключилось, если б ошейник на мне, теперешнем, не золотым, а серебряным оказался.
Долго мы с мелким беседовали, пока я выздоравливал. Точнее, поначалу только он со мной. Говорить пришлось заново учиться. Да и то, поди знай, вышло бы, кабы не песня… На одном из привалов мелкий развел костерок, напек мяса. Повезло ему в тот день с добычей. Нашел крупного молодого кабана-подранка, который от охотников уйти – из последних сил ушел, да повалился без сил под старой сосной помирать. Мелкий на него едва не наступил. Наелись оба в тот вечер от пуза. Настроение, несмотря на все беды и горести – гуляй, деревня! Вот мелкий от души песню-то и затянул.
Не за тучу закатилось
солнце в неба синеве –
Появилась черна туча
да с востока, со степи.
И собралася дружина
с воеводой во главе
Черным татям половецким
не позволить тут пройти.
Повстречались оба войска
на граничной на реке,
Супротив друг друга встали,
не решаясь начинать.
Столько половцев тех было,
сколько пальцев на руке
На дружинника в кольчуге,
поминающего мать.
Старик песню эту частенько любил послушать, а как уехал да сгинул, маманя нам на ночь напевала. Так что все трое – и я, и старшой, и мелкий – назубок ее знали.
Убоялся воевода,