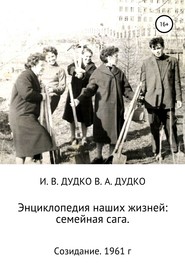 Полная версия
Полная версияЭнциклопедия наших жизней: семейная сага. Созидание. 1961 год
Электричка до Панков уходила за 15 минут до окончания рабочего дня. И всем, кто на неё спешил, рабочий день был, соответственно, передвинут…
На следующий день, вечером, дождавшись времени, когда электричка ушла, я набрала рабочий телефон Виктора. И он мне ответил. Я положила трубку. Значит, он не уехал в Москву?
Вечером, как обычно, я поставила сковородку на стол. Проснулась, когда Виктор съел с аппетитом всё, что было на сковороде. Потом встала и объявила ему – «Если ты ещё раз…, то…».
Я не помню сейчас всё, что я ему тогда сказала. Он выслушал спокойно, и сказал – «Спасибо, что хоть поесть сначала дала».
Мой ультиматум подействовал. Больше в преферанс играть он не ходил.
Позже, вспоминая этот период, Виктор рассказывал, что всегда немного волновался, когда после преферанса возвращался домой. Играли они чаще всего у Ваваева, который жил в квартире напротив нашей. И, каждый раз, выходя от Ваваева, Виктор боялся, что я случайно увижу его в этот момент, и тайна откроется. Но я обычно в это время уже крепко спала…
Как они все, не выспавшиеся, работали – не знаю, но в молодости, наверное, недосып особо на здоровье не влиял. И работали все отлично…
А Валюша ещё не раз упрекала Сашу в том, что он не пошел в аспирантуру из-за того, что продолжал играть в преферанс…
ВСПОМИНАЕТ ВИКТОРКак-то Р. Е. Соркин, обсуждая вопросы комбинированных двигателей, предложил мне заняться этой проблемой. Я несколько дней посвятил решению этой задачи, которая меня увлекла, так как я в это время изучал теорию графов. Я рассмотрел два вида связи в пакете двигателей: каждый со всеми – звёздочка, и каждый с соседним – последовательная схема. Взял за основу уравнения внутренней баллистики одиночного двигателя, предложенные Р. Е. Соркиным, – для каждого одиночного двигателя вводим в уравнения условия газосвязи через отверстие, принимаемое за псевдо-двигатель, в котором нет заряда и газоприхода с него…
В частности, двигатель со щелевым зарядом можно представить в виде двух газосвязанных двигателей и имеющих одно сопло. Один двигатель с щелевым зарядом, а второй с осесимметричным зарядом, что существенно упрощает расчёты.
Когда я доложил результаты Р. Е. Соркину и присутствующей Быковой К. А., это ему понравилось, и он ещё ночью уточнил все расчёты, и утром, придя на работу, рассказал всё это инженерам своей лаборатории, которым идея тоже понравилась, но им не было сказано, что все выводы сделал я. Задача была запрограммирована, и решена. После этого он предложил мне написать статью и послать её в межотраслевой журнал – «Оборонная техника», что я и сделал. А своим инженерам, по существу, такую же задачу, предложил оформить в виде статьи и послать её в наш сборник, что они и сделали. (Отличие состояло только в обозначении индексов.). Причём обсуждение обеих статей проходило на одном и том же НТС (научно-техническом совете) отдела, как и всех последующих статей работников отдела.
Таково соломоново решение принял наш руководитель. Впоследствии, мы уже совместно с Лешей Липановым выполнили работу по расчёту начального участка работы газосвязанных двигателей. Это была наша единственная совместная работа.
Я упомянул здесь Быкову, присутствующую у Р. Е. Сокина. Нужно сказать, что Соркину такое присутствие было необходимо. Ему необходим был секретарь – аппонент, как угодно можно называть человека, который обязан был постоянно находиться около него на работе. На такую роль, на этом отрезке времени, Соркин выбрал Калерию Быкову. Он ей излагал свои идеи, гипотезы, просил кое-что записывать. Потом на ней же проверял развитие теоретических разработок, которые он приносил утром после бессонных ночей. Кстати, Рувим Евелевич часто и много курил и уже с утра у его в кабинет был окутан клубами дыма. (Как только это вынесла Быкова – не знаю.)
Надо сказать, что такое ежедневное общение позволило Калерии накопить достаточный собственный багаж знаний, что со временем она использовала с выгодой.
Вначале я также довольно долго принимал участие в подобных обычно утренних обсуждениях. Потом это стало происходить всё реже и реже, пока почти не прекратилось.
Позже, уже став начальником лаборатории программирования, я всегда принимал участие в обсуждении вновь поставленных задач либо самим Р. Е. Соркиным, либо сотрудниками соседней или других лабораторий.
В этом году пришло приглашение из Саратова на II Всезноюзное совещание по технической и математической эксплуатации электронных вычислительных машин типа «Урал». На конференцию направили меня.
Я съездил в командировку в Свердловск, на 2-ое Всесоюзное совещание по технической и математической эксплуатации электронных вычислительных машин типа УРАЛ.
Уже имея богатый опыт работы на машине – УРАЛ, на таких совещаниях я уже участвовал не только, как слушатель. Активно принимал участие в работах секций, участвовал в обсуждении проблем, выступал с докладами.
(Тем более, что я ещё стоял на стыке технической и математической эксплуатации ЭВМ).
Председателем технической секции был Б. И. Рамеев – главный конструктор серии «Урал».
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. М. ГОРЬКОГО
II ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ТИПА «УРАЛ»
ПРОГРАММАСВЕРДЛОВСК, 12 ОКТЯБРЯ – 17 ОКТЯБРЯ 1961 года
Открытие совещания – 12 октября в 10 часов утра в актовом зале Главного здания университета.
Работа совещания проводится по секциям:
Секция программирования – в читальном зале.
Подсекция численных методов – в читальном зале.
Подсекция прикладной математики – в аудитории № 82.
Секция технической эксплуатации – в актовом зале.
Начало утренних занятий – в 10 часов утра.
Начало вечерних занятий – в 16 часов вечера.
Во вторник, 17 октября, в 16 часов в актовом зале состоится Объединенное заседание обеих секций.
Председатель секции программирования………….….Ю. М. РЕПИНПредседатель технической секции…………………Б. И. РАМЕЕВЯ съездил в командировку в Свердловск, на 2-ое Всесоюзное совещание по технической и математической эксплуатации электронных вычислительных машин типа УРАЛ. Председателем технической секции был Б. И. Рамеев – главный конструктор серии «Урал». Уже имея богатый опыт работы на машине – УРАЛ, на таких совещаниях я уже присутствовал не только, как слушатель.
Активно принимал участие в работах секций, участвовал в обсуждении проблем, выступал с докладами. Тем более, что я ещё стоял на стыке технической и математической эксплуатации ЭВМ.
В частности, я определил типовую ошибку при выполнении операции «деление» и мы со Смирновым послали заявку на выступление на этой конференции в Свердловске.
Составители программы почему-то не включили в число авторов мою фамилию, хотя доклад делал я сам.
Потом Рамеев в выпускаемых ЭВМ исправил допущенную техническую ошибку.
Главный конструктор Башир вместе с коллегами, удостоившись в 1953 году Госпремии за создание «Стрелы», начал работу над проектом новой машины. Помощников он нашел среди собственных воспитанников. Студенты-дипломники, а потом – выпускники МИФИ в 1955 году вместе с Рамеевым отправились в Пензу, где для новой машины «УРАЛ-1» специально выделили Пензенский завод счётных машин Министерства приборостроения и средств автоматизации. ЭВМ «Урал-1» была предназначена для инженерных расчётов в вычислительных центров НИИ, КБ и на промышленных предприятиях.
Кстати, это, конечно, звучит теперь забавно, но всегда, когда я входил в машинный зал, либо утром либо в любое другое время, если решалась задача, всегда происходил сбой машины на этой операции деления. Как будто, машина «Урал» таким образом приветствовала меня, или хотела привлечь к себе моё внимание. Это была какая-то мистика!
В отдел в конце 1960 года пришли молодые специалисты из Тулы – Соболев и Соловьёв. Я вместе с ними стал обсуждать возможности создания ионного двигателя на основе твёрдого топлива, который выгодно применять уже за пределами земной атмосферы. Мы втроём составили план работ, и поставили перед собой целый ряд вопросов, ответы на которые нужно было найти, для чего необходимо было серьёзно поработать. В начале 1961 года мы часто собирались и обсуждали разные проблемы. А затем, занятые текущими работами, мы как-то постепенно охладели к этому вопросу и перестали встречаться.
Чем ещё характеризуется 61-й год? Этот год, как и несколько других характеризуется тем, что все мы учились. Программисты учились составлять хорошие программы в кодах машины и отлаживать их. Причём каждый по-своему, иногда быстро, иногда довольно медленно, но всегда добросовестно.
Постановщики задач (сначала им был только Соркин, а потом и другие) только ещё учились правильно составлять математическое описание процесса. Такие выражения "как известно" или "как принято" и т. п. не всегда находили должное место в составленных алгоритмах. Поэтому неточно записанные алгоритмы не позволяли получать правильные результаты в расчётах составленных программах. Соответственно, нам – программистам приходилось самим корректировать как алгоритм, так и программу.
Появилось выражение – «вариант программы». При этом тогда, на первых порах, мы – программисты, не всегда умели подсказать постановщику – в чём его недоработка. Это пришло с опытом много лет спустя.
Поскольку Соркин приступил к решению проблемы распределения масс между ступенями ракеты, нам приходилось решать большое количество вариантов внешнебаллистической задачи.
Тогда мы ещё не знали и не умели программно перебирать варианты по заданным параметрам и поэтому этот перебор мы осуществляли в виде большого количества вариантов, подготавливая их на перфокартах, выполняя роль операторов. Как впрочем, и в соседней лаборатории инженеры-постановщики выполняли роль техников, рисуя большое количество графиков по полученным от нас распечаткам вариантов. Анализ графиков и выводы делал сам Р. Е. Соркин.
Как уже упоминалось, решение поставленной Р. Е. Соркиным проблемы нельзя было выполнить на тихоходной и слабой ЭВМ Урал, поэтому мы стали осваивать более современную и по тем временам довольно быстроходную ЭВМ М-20, зная что она к нам занаряжена (по распределению внутри министерства).
Конечно по сравнению с характеристиками «Урал-1», "ЭВМ М-20" было более универсальной машиной.
Для сравнения этих двух ЭВМ, я приведу их основные характнристики.
"Урал-1" по производительности относилась к малым машинам, и была относительно дешевой. Она обладала следующими характеристиками:
Система счисления – двоичная. Форма счисления числа – с фиксирующей запятой. Разрядность – 36. Диапазон представления чисел – 1 < х < + 1. Система команд – одноадресная. Быстродействие – 100 операций в секунду. Оперативное ЗУ машины – на магнитном барабане, объёмом 1024 слова. К машине подключались выходные устройства: печатающие (ПЧУ) и перфорирующие (ПФУ). Система команд машины позволяла вести программирование операций с плавающей запятой. Машина имела развитую систему команд с безусловной и условной передачей управления, систему сигнализации и ручное управление, позволяющее следить за использованием программы и вмешиваться в ход её выполнения для внесения исправлений в процессе отладки. Потребляемая мощность – 10 квт. Площадь для размещения машины 75 квадратных метров. ЭВМ «Урал-1» выпускалась до 1966 года. Число выпущенных машин – 183, на одной из которых мы работали.
Занаряженная нам ЭВМ «М-20» была разработана в институте точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) и СКБ-245 под руководством А. Лебедева. Заместители главного конструктора – М. К. Сулим и М. Р. Шура – Бура, с которым я лично был знаком. Основными разработчиками были – П. П. Головистиков, В. Я. Алексеев, В. В. Бардиж, В. Н. Лаут, А. А. Соколов, М. В. Тяпкин и А. С. Фёдоров. Разработка была начата в 1955 году, и завершена в 1958 году. ЭВМ выпускалась с 1959 по 1964 год на Казанском заводе математических машин и Московском заводе САМ. В Казани всего было выпущено 63 ЭВМ "М-20".
Характеристики ЭВМ "М-20".
Элементная база – 1600 электровакуумных ламп, полупроводниковые диоды. Тактовая частота -666,7 кГц (1 импульс примерно за 1,5 мксек.). Система представления чисел – двоичная с плавающей запятой, 45 разрядов на коды чисел. Оперативная память – на ферритовых сердечниках, объёмом 4096 45-разрядных слов. Буферная память – три магнитных барабана по 4096 слов каждый. Внешняя память – магнитные ленты (4 блока), перфокарты. Устройство вывода – печатающее устройство. Производительность – в среднем 20 тысяч операций в секунду… Занимаемая площадь – 170–200 квадратных метров. Потребляемая мощность – 50 кВт, не считая системы охлаждения.
ЭВМ «М-20» считалась у нас в стране самой быстродействующей ЭВМ – 20 тысяч операций в секунду. Но зарубежная техника опережала нашу советскую. Так например, в Англии с 1954 года IBM 704 имела быстродействие 40 тысяч операций в секунду. А поставлявшаяся нам с 1959 года транзисторная ЭВМ IBM 7090 – более 220 тысяч операций в секунду.
Мы начинали работать на двух арендованных машинах М-20, а вскоре получили свою машину. Много позже мы получили машины М-220 и БЭСМ-4.
В нашей стране вскоре на замену М-20 были разработаны полупроводниковые машины БЭСМ-3М, БЭСМ-4, М-220М и М-222, программно совместимые с М-20. Но они уже имели больший объём памяти. Машины М-220М и М-222 были созданы в СКБ Казанского завода ЭВМ, и получили распространение в военно-промышленном комплексе. Они выпускались с 1968 по 1974 год и всего их было выпущено более 200 штук.
Главным конструктором этих ЭВМ был Антонов Вениамин Степанович. Основными разработчиками – А. А. Шульгин, Г. Г. Зоткин, Н. Егорычева, В. С. Клепинин и В. Гуров. Организацией – разработчиком был Научно-исследовательский институт электронных машин (НИЭМ). Изготовители – Московский завод счётно-аналитических машин (САМ) и Казанский завод ЭВМ ЭВМ Министерства радиопромышленности СССР.
Структура машины М-220 мало чем отличается от структуры ЭВМ М-20. Их внутренние организационные связи аналогичны. Поэтому сохранялось программное обеспечение ЭВМ М-20. Отличие ЭВМ М-220 от М-20 состояло в том, что все ЭВМ этого класса выполнены на полупроводниковых приборах (потенциально-импульсные схемы, диодно-трансформаторная логика), и объём ферритового ЗУ увеличен до 16К слов (М-220) и 32К слов (М-222). Кроме того система команд дополнена командами переключения с одного модуля ЗУ на другой. Применено умножение на два разряда, имеется операция извлечения квадратного корня. Все машины этой группы получили модернизированные внешние накопители и устройства ввода – вывода.
ЭВМ М-220 и М-222 размещались на площади 100 квадратных метров и более в зависимости от комплектации внешним оборудованием. Быстродействие их составляло 28 тысяч операций в секунду. Потребляемая мощность от сети – 380 / 220 В., не превышала 20 кВа. Среднее время между отказами -500 часов.
Но поступление этих ЭВМ на предприятие ещё ожидалось, А пока мы только ещё получили техдокументацию на ЭВМ М-20 и приступили к ознакомлению с системой команд.
Я стал составлять конспекты будущих занятий по системе команд М-20, рассматривал различные примеры, кроме тех, что были приведены в техдокументации.
При этом мы впятером составили программы решения задачи Р. Е. Соркина, а набивать программы и решать варианты мы смогли на арендованных ЭВМ. Я в лаборатории провёл занятия по системе команд М-20.
При этом я разъяснял особенности новой ЭВМ: её трёхадресность, возможность не заниматься масштабированием, получение результатов на широкой бумажной ленте, разрешение исправлять не всю исходную информацию, полученную на ленте, а только отдельные единичные перфокарты и т. д.
Конечно, для прогаммистов, работающих на Урале, переход на новую ЭВМ был затруднителен, а для вновь приходящих специалистов он давался более легко.
Бывая в других организациях, я обращал внимание на организацию работ в ВЦ, в частности на работу вспомогательного персонала, впоследствии названных операторами.
Я не сразу осознал важность и необходимость их работы. Многое, чему я учился сам, я систематизировал в своей "копилке знаний", и, рационализировав, старался реализовать на практике, передавая накопленные знания своим сотрудникам.
* * *Все фотографии в книге взяты из личного альбома семьи Дудко.

