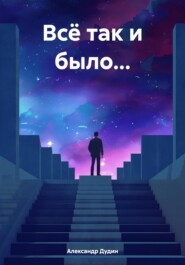скачать книгу бесплатно
Новоиспечённого ратника определило командование на должность ездового. Полгода тянул он вместе со своей лошадкой артиллерийские орудия по фронтовому бездорожью. Но, однажды, во время авианалёта, взорвался неподалёку фугас, сразив лошадь наповал. Только и запомнил Женька, как дёргалось в конвульсиях животное, брызгая сгустками крови из многочисленных рваных ран.
Очнулся солдат в передвижном военном госпитале. Долго лежал он, глядя в окно на зарождающийся день. Солнце медленно поднималось из-за пригорка, наполняя вагон необыкновенно прозрачным, загадочным светом. И, только взглянув на прилипшую к потному телу простыню, понял, что и его, как когда-то родного деда, не обошла стороной судьба. Дед его тоже, потеряв ногу ещё на полях Первой мировой, всю оставшуюся жизнь ковылял на самодельной деревяшке, пристёгнутой к култышке сыромятными ремнями. Почти полгода провалялся Евгений по тыловым госпиталям. В первые же дни он написал Михеихе, слёзно прося, чтобы не говорила она односельчанам, а в особенности Валентине, о его бедственном положении. Поначалу, после выписки, и возвращаться-то не хотел, да боевые друзья отговорили, убедив в необходимости вернуться в родные края. Вот и Михеиха отписала, что жить де не может, скучает и ждёт.
В доме было тепло и уютно. В печке потрескивали поленья, наполняя комнату еле уловимым берёзовым духом. Не прошло и часа, как стала собираться вся немногочисленная родня, оповещённая всё тем же соседским мальчишкой.
Тут же организовали небогатое застолье с квашеной капустой и отварным картофелем. Кто-то принёс чуть неполную четверть самогона, кто-то уже пожелтевший, но всё ещё аппетитно пахнущий чесноком, кусок сала. Поначалу ели молча. Евгений, разгорячённый выпивкой и едой, первый завёл разговор:
– А что, родственнички, не ударить ли нам по клавишам? Год в руках гармошки не держал!
Михеиха бросилась в свою спаленку, ловко вынула из старого сундука, бережно завернутую в вышитое полотенце, гармошку.
– Ну, давай, милай, нашу колхозную!
И не успел Женька растянуть меха, а мамка уже запела, притопывая в такт ногами:
Разбейся,горох,
На четыре части!
Эх, чего же не плясать
При советской власти.
И тут же поднялось всё застолье, и покатилась веселуха:
Эх, бей дробней!
Сапог не жалей!
Стало жить хорошо!
Стало жить веселей!
Валентина сидела, молча прижавшись к Женькиному плечу. Ей одной было невесело. Мысли пчёлками роились в девичьей головке: «Как быть? Что делать? Ведь плясуном был, да и на работе в передовиках, а теперь-то как?»
Жалость липкой волной то подкатывалась к сердцу, то отпускала, но, увидев Женькину весёлость, решила: «Ну и пусть, всё равно милее его никого нет!»
Она ещё крепче прижалась к его плечу и тихонько прошептала:
– Ты – мой!
– Чего мыть-то? – с усмешкой ответил Женька и, отставив гармошку, обнял, крепко прижав её голову к своей груди.
Да – это был всё тот же Женька, её Женька – балагур и весельчак, душа компании. Валька прижалась к нему ещё сильнее, слёзы счастья блеснули в её глазах. Она нежно погладила ладошкой его небритую шершавую щеку и тихо, напевно растягивая слова, прошептала:
– Ты – мой!
ТАНЯ
В первые месяцы войны эвакуировали Таню вместе с заводом в этот неуютный сибирский город. Лето прокатилось бесконечными трудовыми буднями, двенадцатичасовые смены изматывали донельзя, и, казалось, никакие перемены не смогут изменить этого течения времени. А как грянули первые морозы, стало вообще невмоготу. Летние ботиночки, надетые на тоненькие носки – не грели. А мороз всё крепчал с каждым днём, прихватывая ступни, ползя вверх, вызывая онемение всех частей тела от пят до макушки.
Токарный цех, в котором работала Таня, расположился, как говорится, «под открытым небом». Отопление в цехе отсутствовало, а кирпичные стены и шиферная крыша не могли спасти работающих от всё усиливающегося холода. Вездесущие сквозняки гуляли в пустых оконных проёмах, усиливая действие мороза, как казалось, стократ. Стоя у токарного станка, шестнадцатилетняя девчонка мечтала только об одном: скорее бы наступил обеденный перерыв, чтобы, хотя бы часок, погреться возле печки-буржуйки, установленной в пристроенной к цеху теплушке.
В тот день мороз приблизился к отметке минус сорок. Через пару часов работы Танюшка, отойдя несколько шагов от станка, упала. Стоящий неподалёку старик Варфоломеев подбежал и, подхватив девушку, понёс её в тепло. Наскоро развязав затянутые на узел шнурки, он принялся растирать Танины ноги шерстяной рукавичкой.
– Что ж ты такая непутёвая, – приговаривал дед, – разве ж можно на такой мороз, да в таких ботиночках. И куда только мастер смотрел. Тебе что же валенки не выдали?
– Не выдали, – чуть слышно выдавила из себя Таня, еле двигая посиневшими от холода губами.
– Да как так? Почему к мастеру не подошла, не потребовала, – продолжил старик своё нравоучение, – а тот тоже хорош, мимо девчонки с десяток раз за день проходит, а под станок невдомёк заглянуть. Попадись он мне на глаза…
Через час Татьяну увезли в военный эвакогоспиталь, расположенный в квартале от заводских цехов. Пришедший военврач диагностировал глубокое обморожение ступней ног. Через неделю началась гангрена.
Егор Кузьмич Варфоломеев каждый день навещал больную, принося нехитрые гостинцы: кулёк кедровых орехов, баночку клюквенного варенья или мёда:
– Ешь, дочка, поправляйся, – говаривал он по-отцовски ласково, – моя-то донюшка немногим тебя постарше будет, всего-то годка на два. Ускоренные курсы медсестёр окончила, да и на фронт. Одна она у меня родная душа. Жена при родах померла, тяжелые роды были, вот она и не выдюжила… С того времени бобылём век и коротаю. Фельдшер говаривал, что ампутацию тебе готовят, так ты не соглашайся. Помогу я тебе, вы?хожу. Есть у меня снадобье такое, от староверов местных перенял. Оне-то люди таёжные, знают всякие травы целебные, отвары да зелья готовят. Сёдни же схожу, раздобуду кой-какое увощье да мазь тебе и приготовлю. Сам буду приходить мазать.
На следующее утро Егор Кузьмич пришёл рано, часа за полтора до начала смены. Почти час уговаривал он врачей повременить с ампутацией, приводя примеры из своей собственной жизни и опыта охотников-промысловиков, живущих староверческой общиной неподалёку от домика лесника, в должности которого и пребывал старик Варфоломеев до выхода на пенсию. Его увещевания были настолько убедительны, что даже сам военврач первого ранга, начмед госпиталя, решился на дедов эксперимент, но под наблюдением лечащего врача.
Спустя несколько дней больная не только пошла на поправку, но и стала самостоятельно прохаживаться по палате, держась руками за спинки соседних кроватей. Медики недоумевали столь быстрому выздоровлению пациентки, и хирург Валентина Ивановна Симченко, осматривая ноги девушки, с удивлением заметила:
– Вот что молодость вкупе с вековым народным опытом делает. Надо перенимать, – и, повернувшись к старшему военфельдшеру, добавила, – непременно перепишите рецепт у этого старика, непременно перепишите. Это нам в будущем очень даже пригодится!
К началу января Татьяна выздоровела окончательно. Однако, памятуя о наставлениях старика Варфоломеева, держать ноги в тепле, и по настоянию Валентины Ивановны, она была направлена в госпиталь санитаркой. Тут и потянулись нелёгкие трудовые будни, перемежаясь с долгими бессонными ночами. Всё свилось в единый клубок: уборка палат и операционных, обработка и дезинфекция инструментов, стирка бинтов и солдатского белья… Три-четыре часа беспокойного сна и снова за работу, в палаты к раненым. К лету Таня уже считалась первоклассным специалистом и была отмечена руководством почётной грамотой. Она уже дважды подавала рапорт об отправке на фронт в должности санинструктора, но оба раза ей было отказано.
– Вот так, девочка моя, – говорила Тане Валентина Ивановна, – фронт сейчас не только там, где стреляют, он здесь, в этих палатах. Наипервейшая наша задача – вернуть в строй бойцов, это они должны ковать победу там, на фронте, а ты обязана изо всех сил способствовать их быстрейшему выздоровлению. Вот твоё главное боевое задание.
Вскоре привезли новую партию раненых – более ста человек и потянулись бессонные ночи. Несколько дней кряду Таня не прилегла, не присела. Многие солдатики звали её:
– Сестрёнка, миленькая, помоги! Мочи нет, как больно, – и она бегала от одного раненого к другому, не останавливаясь ни на минуту. Только к концу третьих суток Таня присела на мгновение на одну из пустующих кроватей и тут же уснула. Сон накатился упругой волной, отключая сознание, расслабляя натруженные непосильным трудом мышцы. Откуда-то издалека, доносились сквозь сон приглушённые стенания «пить… больно… не могу больше…».
Проснулась она от громкого крика. Молодой лейтенант, лежащий на соседней кровати, привстал, превозмогая боль, и кричал:
– Молчать! Всем молчать! Я приказываю!
Он понял, что девушка без сил, а все зовут, им больно: "Сестра! Сестричка!" Таня вскочила и побежала – не зная, куда и зачем. Она в беспамятстве выскочила на улицу и, очнувшись, заплакала.
Спустя несколько минут, успокоившись, девушка вернулась в палату и подошла к лейтенанту:
– Спасибо вам! Как ваше самочувствие? – она взяла его здоровую руку и нежно погладила.
На лице раненого появилась еле заметная улыбка. Он смущённо отвёл глаза и тихонько пробормотал:
– Я то чего? Сейчас уже не страшно… Теперь всё позади… Страшно было тогда, когда пошли в атаку, в рукопашную. Всё пронеслось, как одно мгновение. Помню только хруст хрящей – кости человеческие трещат, кровь фонтаном брызжет! Бойцы криком звериным кричат, штыками колют в лицо, в живот, в сердце… Головы дробят прикладами, доламывают, добивают… Теперь всё позади… В первые дни после ранения спать не мог, нет, не от боли – от увиденного.
– Ничего, всё пройдёт, выздоравливайте скорее, – промолвила Таня, ласково поглаживая руку лейтенанта.
– Я ведь учителем хотел стать, поступил в училище, год только и проучился, а тут война, будь она неладна, – тихо продолжил раненый.
– Не отчаивайтесь! У вас всё ещё впереди, ещё окончите своё училище. Главное в учительской работе – голова, всё остальное второстепенно.
Таня понимала, скорее, была уверена, что с таким ранением обратно на фронт лейтенанта не отправят. Правая рука его была перебита и висела плетью, а подвижность пальцев полностью отсутствовала.
Через месяц лейтенанта Прокопьева комиссовали. Вскоре он подал документы и был зачислен на второй курс педагогического училища. Время за делами и заботами пролетало быстро. В свободное от учёбы время Сергей Прокопьев прибегал в госпиталь и, чем мог, помогал Татьяне. Рука его понемногу восстановилась. Пальцы обрели прежнюю хватку, вот только в локте она так и не гнулась, но это обстоятельство, как казалось, не очень беспокоило молодого человека.
В тот памятный день Таня уснула под утро. Разбудили её крики раненых. Ходячие больные сгрудились у окон, за которыми раздавались крики: «Ура-а-а! Побе-е-да!». Толпы людей плыли по улице, как река. Всё, что накопилось за четыре военных года: боль, муки, надежды и разочарования, – всё слилось в единое целое, задышало, запело в одноразье, сошлось в многоголосье, которое и веселилось и плакало одновременно.
В этот же день бывший лейтенант, а теперь учитель начальных классов, Сергей Прокопьев сделал Татьяне предложение. Этот день стал для обоих двойным праздником: Днём победы над врагом и Днём объединения двух любящих сердец.
Много воды утекло с той поры, но память о войне, принесшей не только муки и страдания, но и всепобеждающую любовь, надолго останется в сердцах и душах детей и внуков Прокопьевых, потомков того раненого лейтенанта и молоденькой девчушки, санитарки тылового эвакогоспиталя.
ВЕРКИНА КРЕПОСТЬ
В дверь застучали так, что стены затряслись.
– Открывай, стерва, а не то всю хату раскатаю по брёвнышку, – раздалось из-за двери.
– Сейчас, сейчас! Не тарабань, ты, так… Сейчас отворю, – протараторила Верка, второпях натягивая стёганый халат. Растерявшись спросонья, она попыталась впихнуть руку в рукав, но в полутьме это ей не удалось. Бросив халат на пол, Верка, наспех набросив одеяло на плечи, подбежала к двери и загремела засовами, причитая:
– Сейчас, сейчас, миленькай, сейчас, погодь малость.
Дверь распахнулась, и в неё ввалился муж. Сбросив у порога грязные кирзачи, он прошёл мимо моей лежанки, и так сильно пнул меня в бок, что я чуть не взвыл от боли.
– Сволочь! Чтоб ты сдох, изувер проклятущий, – подумал я, но, не смея ответить на его хамство, молча отвернулся к стенке. Слёзы накатились на глаза, и я тихонько, чтобы не услышала Верка, заплакал.
Появился я в этом семействе полтора месяца назад. Верка, тётка доброхотная, подобрала меня на Успенской улице, выдернув из толпы разъярённых беспризорников, избивавших меня за украденный кусок копчёной колбасы. Привела домой, отогрела, отмыла, причесала. Впервые за последние два года встретился человек, приласкавший меня, накормивший настоящей, горячей картофельной похлёбкой. И всё бы хорошо, да вот муж её, Прокопий, невзлюбил меня с первого же дня. Вообще-то, будучи трезвым, он добрел. Брал меня на колени и, гладя по голове, приговаривал:
– Ну, как тебе у нас живётся, братишка. Я, ведь, очень тебя понимаю, сам в сиротстве рос. Бывали дни, когда не токмо крохи хлебушка, а и маковой росинки во рту не бывало. Подобрала меня, так же, как и тебя, бабка Авдотья, приголубила, хотя своих ртов было трое. Баба она была вдовая. Мужик на заработки поехал, да там и сгинул. Придавило его бревном на строительстве каких-то фортификаций. Хоть и по военному ведомству в рабочих числился, а пенсию по утере кормильца Авдотья не выхлопотола. Так и тянулась. То бельишко кому постирает, то избу побелит. Да и огородик садила небольшенький. Мы, пацанятами, на том огородике и пробавлялись репкой да морковкой. Так нас и выходила. В рабочие определились, зажили прибыльно, как-никак парни в полном здравии. Потом война началась. Брательники мои названные все в той войне и полегли, а за ними и мамка Авдотья опочила. Так вот я и осиротел сызнова.
Такой был мужик Прокопий. Как в народе говорится «добрый, пока спит зубами к стенке». Сильно-то меня не избивал, так – пинка, порой, наладит или «леща» отвесит по затылку. Я всё терпел. Годы уличных скитаний научили молча переживать все страдания и жизненные невзгоды.
Однако в этот раз хозяин разошёлся не на шутку. Бу?хнувшись со всего маха на скамейку, он, грохнув по столу кулаком, прорычал:
– Верка, жрать тащи! Я те щас устрою экзекуцию!
Верка испуганно залопотала, бросившись к печке:
– Сейчас, родненький! Супец-то я ещё в полдник сварила, да и в шесток поставила, чтоб не остыл. А ты вона как, прибыл затемно, – она прихватила тряпкой чугунок и вскликнула, – ой, да он совсем ещё горячий.
Взяв в руки половник, Верка сноровисто, по-хозяйски, налила полную миску супа и поставила перед мужем. Прижав к груди буханку черного хлеба, ловким движением отрезала краюху.
– Ешь, миленькай, приятного аппетита.
– Жри сама, сука, – прорычал Прокопий и, схватив жену за руку, резким движением усадил на пол перед собой. Левой рукой он смёл со стола приготовленную еду. Миска со звоном полетела в угол, разбрызгивая по сторонам Веркино варево.
– Где сёдни была, где шаталась, с кем встречалась? – продолжил Прокоп, язвительно. Верка, вжав голову в плечи, заойкала, прикрываясь свободной рукой.
– Да что ты, миленькай, дома была. Сходила, правда, с утра к бабке Пожили?хе, захворала она, почитай месяц лежит, помыть попросила. Ну, я помыла её, да и домой. Вот она и свининки чуток пожаловала, я суп из неё сварила.
– А Колька, зачем приходил? – продолжил муж допрос, всё сильнее и сильнее сжимая руку жены.
– Так он за мной и приходил. Пожилиха велела меня позвать.
– Врёшь! Врёшь, потаскуха! – закричал Прокопий и наотмашь ударил Верку по лицу. Кровь брызнула из носа. Она вырвала руку, освободившись от мертвой мужниной хватки, и упала на пол, прикрывая голову обеими руками.
Соскочив с места, Прокопий яростно стал пинать босыми ногами её скорченное тело.
Нервы мои не выдержали. Я всё терпел от Веркиного мужа: пинки, шлепки и всякого рода унижения, – но снести такое изуверство в отношении беззащитной женщины не мог. С разбегу я решительно набросился на него, схватил зубами за ногу и стал её трепать в разные стороны. Кровь забрызгала из прокушенной и?кры. Прокопий заревел благим матом, выдернул ногу и, попрыгав кузнечиком, по-мальчишечьи проворно вскарабкался на печь, по пути перевернув скамью, со стоящими на ней вёдрами с водой. Вода разлилась по всей избе. Верка обхватила меня обеими руками и, прижав к груди, запричитала:
– Родненький мой, спаситель мой, – она грозно посмотрела в сторону мужа и, крепко сжав кулак, погрозила, – вот так тебе, ирод окаянный. Тапереча не будет тебе свободы надо мной изгаляться! Тапереча и у меня есть своя крепость, свой защитник.
– Да, ладно тебе, – промямлил Прокопий с болью в голосе и, постанывая, продолжил перевязывать израненную ногу белой стираной портянкой, разорванной на полоски.
Верка встала и, обмыв из рукомойника лицо, ласково меня позвала:
– Пойдём, Трезорка, я тебя покормлю. Сегодня у тебя суп с мясом, а этот супостат пусть голодом сидит. Такая ему наука будет.
С этого дня Прокопий присмирел. Он не позволял больше себе злобствовать, обходил меня стороной и Верку не трогал. Я начинал угрожающе рычать, как только он повышал голос. Почувствовав опасность, Прокопий переходил на полушёпот, продолжая разговор тихо-тихо, с благоговейным трепетом.
ДВА КОРОТКИХ, ОДИН ПРОТЯЖНЫЙ…
1. Пролог.
Утро началось с очередного «вселенского» скандала. Арина Бутько, на чём свет стоит, костерила расхожими словами свою соседку, Азу Самуиловну Фридман:
– Ну, шо ты будешь дилать, опять оця куря мне всю грядку зруйнувала, – кричала она, размахивая соседской несушкой, схватив её мёртвой хваткой за основание крыльев. – Аза, чтоб тоби, пойди до мэ?не. Глянь, шо твои куры сотворили с моим огородом. Яка птыця скаженная!
Из окна соседнего дома выглянула Аза Самуиловна – дама забальзаковского возраста. Её голову венчала копна волос, накрученных на самодельные бумажные папильотки и подвязанных снизу красным шёлковым платочком. Издалека – это экзотическое сооружение напоминало пшент – корону древнеегипетских фараонов. Женщина, равнодушно позёвывая, как бы не обращая внимания на бранящуюся соседку, втирала пухлыми пальцами тональный крем в румяные, как наливные яблочки, щеки:
– Таки шо?.. Шо ты хочешь от моей жизни? Сто?ит, нет ли, того, чтобы порядочных людей будоражить из-за какой-то грядки. Чего такого на той грядке растёт? Цимес? Таки нет – «густо сеяно, да редко всхоже»? Морковка, небось? Таки у тебя, хм… я сильно помолчу, какая морковка растёт! Будь ласкова, возьми с под моей грядки ведёрко-полтора и по-за глаза тебе хватит. Вот в прошлом годе твой кабанчик мне всю капусту покоцал – и шо? Мне хватило нервов не строить тебе безрадостную композицию?
Арина Бутько перебросила курицу через забор, подбоченилась и, выпятив вперёд свои необъятные груди, со злостью в голосе продолжила:
– Тю-у-у! Вот те на… Гляньте-ка на неё! Воистину людыны гово?рють: «Коли еврей народывся – то хохол заплакав». Совсим совесть потеряла! А чи не я тоби в минулому жовтни три мишкив качанов видала? Да на твоих-то грядках сроду такой капусты не бывало. Так вот, за порушенную грядку я з тебе запитаю, будь покийна, а зараз у мэне немае бажання з тобою розмовляти.
Арина приехала из маленького южного городка, население которого состояло из украинцев и русских. В её семье говорили на обоих языках и женщина, в порыве волнения или гнева, часто переходила с русского языка на украинскую мову и обратно, превращая свою речь во «взрывоопасную» смесь. Вот и сейчас выпалив эту словесную мешанину, она резко повернулась и уверенной походкой направилась к дому. Поднявшись на крыльцо, Арина обернулась и плюнула в сторону соседки, как бы показывая своё презрительное отношение к ней.
Аза Самуиловна равнодушно хмыкнула, бросив высокомерный взгляд вслед уходящей собеседнице, и закрыла окно.
2. Яков и Аза.
Яша Фридман окончил школу с отличием, после, без видимых усилий, поступил в строительный институт. Получив высшее образование, он был направлен прорабом на строительство Лесогорского завода железобетонных изделий, где и познакомился со своей будущей женой. Юная Аза занимала должность кассира в бухгалтерии строительного управления. Девушка она была видная. Многие молодые люди крутились подле неё, выражая знаки внимания, получая в ответ только равнодушные, надменные взгляды.
Несмотря на молодой возраст, рабочие величали прораба уважительно – Яковом Ефремовичем. Человеком он был общительным и мудрым не по годам. Его феноменальная память поражала собеседников. Протрудившись на стройке чуть более полугода, Яков Ефремович не просто познакомился со всеми людьми, работающими на строительстве завода, он запомнил каждого по имени-отчеству, удивляя тем самым не только подчинённых, но и вышестоящее начальство.
В один из морозных январских вечеров в дверь квартиры, в которой Яков снимал небольшую комнатку, постучали. Дверь отворилась, и в неё ввалился бригадир каменщиков – Богдан Бутько. Он постоял молча несколько секунд, как бы обдумывая тему для разговора и, прокашлявшись в выбившийся из-за пазухи шарф, произнёс охрипшим от мороза голосом:
– Мимо проходил, гляжу – свет горит. Дай, думаю, зайду.