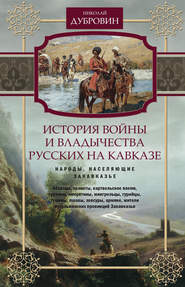
Полная версия:
История войны и владычества русских на Кавказе. Народы, населяющие Закавказье. Том 2
Абазины верят в существование демона и убеждены, что он способен наслаждаться семейной жизнию, обзаводиться потомством и не откажется от вкусного шашлыка и кахетинского. Понятия о демоне и духе гор смешаны у абазинов и равнозначны. По представлению народа, демон сибарит и отчаянный волокита, изнеженный безнравственной жизнью до такой степени, что в одиночной схватке устоит не против каждого джигита, но зато обладает силою усыплять тех, кто захочет до него достигнуть. Пораженный звуками дивной, неземной музыки, приближающийся к нему человек чувствует какое-то обаятельное влияние могучей силы и невольно останавливается. Ему слышится то нежный, страстный плач струны, то журчание серебристого потока, то певучий голос прекрасной женщины. Напрасно смелый джигит силится сделать тогда движение – он не может, он чувствует, как все существо его изнемогает в какой-то мечтательной неге, как чья-то нежная, мягкая рука ласкает его щеки и своим легким щекотаньем наводит сладкую дремоту.
Трудно устоять от такого искушения, но знаменитый джигит Ширар, слава которого гремела по всей Абазии, победил горного духа, и вот по какому случаю: Гих-Урсан, старшина аула, раскинутого внутри гор, на берегу одного из бесчисленных рукавов реки Киласури, полюбил в молодые годы красавицу Рити, которая соглашалась выйти за него замуж, когда он, при предстоящем набеге, возвратит ей брата, а если последний будет убит, то привезет в родной аул хотя его голову. Урсан дал клятву и отправился с друзьями на поиск к цебельдинцам. В первой схватке с ними, раненный в плечо, Урсан замертво упал между родными трупами. Очнувшись, он вспомнил то мгновение, когда слабевший от раны и помутившийся взор его остановился на убитом товарище, брате Рити, у которого враг отделил голову и, бросив ее в свой мешок, скрылся за скалами. Клятва принести если не труп, то голову убитого товарища свято соблюдалась горцами. Позор и вечное осмеяние ожидали не исполнившего клятвы.
Оттого-то горцы часто дрались с отчаянием и ложились сотнями под ударами пуль и штыков, чтобы только увезти с собою тела убитых товарищей. Не выручив головы брата своей возлюбленной, Урсану нельзя было вернуться в родной аул и приласкать на своей груди кудрявую головку Рити. С отчаяния влюбленный готов был на самоубийство, и рука его невольно скользнула за пояс, ища кинжала.
– Остановись! – прошептал кто-то над его ухом.
Урсан вздрогнул, поднял голову – перед ним стоял молодой цебельдинец, со странною, почти нечеловеческой улыбкой.
– Безумец! – сказал ему молодой человек. – Как будто в этом мире не осталось для тебя ничьей силы, которая бы воротила тебе счастие.
– Ничьей! Ничьей! – отвечал Урсан с отчаянием.
– Как? А горный дух долин наших? Зачем не призовешь его?
– Горный дух! – повторил Урсан и в припадке забытья запел песню призвания…
Протяжный и страшный хохот был ответом на этот призыв. Незнакомец откинул полу бурки – и Урсан увидел мертвую голову брата Рити.
– Вот она! – проговорил горный дух, швырнув голову на колени Урсана. – Возьми ее, – продолжал он, – но знай, что с этой минуты ты мой должник. Через тридцать лет я возьму у тебя, в свою очередь, то, что будет дорого твоему сердцу.
«Прошло тридцать счастливых лет, – рассказывал Гих-Урсан, – пролетело много времени, утекло много воды в Киласури – и я забыл мой долг горному духу… И вот две луны протекли с тех пор, как однажды, ночью, разбудил меня выстрел винтовки. Вскакиваю с войлока, кидаюсь к дверям сакли и у порога ее встречаю поцелуй жены. В ту же ночь Рити разрешилась сыном. Радость моя была выше всех радостей жизни».
Обрадованные родители выбрали своему сыну воспитателя (аталыка) и назначили день передачи новорожденного на руки аталыка. В ночь на этот день кто-то разбудил счастливого отца, который, очнувшись, увидел перед собою духа гор.
– Тридцать лет, Гих-Урсан! Время… завтра я возьму мой долг и твое сокровище!..
Сон сбылся. Едва только воспитатель вынес ребенка на крыльцо сакли, как в голубой выси облаков показался огромный черный орел. Он плыл медленно, со страшным свистом рассекая воздух своими гигантскими крыльями. С протяжным визгом описал он круг, бросился на аталыка, сбил его с ног ударом крыла и, схватив когтями малютку, быстрее ветра и вспышки пороха умчался в поднебесье.
Урсан с отчаяния бросил дом и бежал в надречные скалы искать своего сына, бежал туда, где одни только зловещие черные орлы повили свои гнезда.
«С восходом солнца, пробродив целую ночь, – рассказывал Гих-Урсан, – и ища встречи с тем, кто унес мое счастье, я садился над рекою и долго и молча вглядывался в ее быстрый бег, готовый прыгнуть в крутящийся над камнями бурун. В эти минуты, в стороне, мне часто слышался знакомый плач малютки и чей-то хохот… Тогда я, затаив дыхание и млея от душевной боли, озирался кругом; но, при первом моем движении, все смолкало окрест меня, и снова наставала могильная тишина, изредка нарушаемая ружейным выстрелом, раздававшимся в горах, да взмахом и шумом крыльев орла. Однажды плач малютки и неизбежный хохот раздались так близко от меня, что, вздрогнув, я едва не покатился в реку. Поднимаю голову… и сердце страшно и больно застонало во мне, когда глаза мои остановились на моем малютке. Он, на закраине бездны, играл цветами, а горный дух напевал ему какую-то колыбельную песню. Ветер подбрасывал розы и развевал черные пряди волос шайтана, обнажая его чудовищное и бледное лицо. Болезненный стон вырвался из груди моей; я протянул руки к видению и пополз на верх скалы, раздирая лицо, грудь об острый кремень. Но зловещий хохот демона встретил меня… и тяжелый сон заковал мои веки».
Семь дней Гих-Урсан любовался издали своим ребенком, семь раз пытался он проползти к нему, но каждый раз был усыпляем демоном. Не надеясь на свои силы, потеряв надежду достигнуть до обиталища духа гор, Гих-Урсан обратился к знаменитому джигиту Ширару, прося его спасти дитя и вступить в поединок с духом гор. Ширар согласился. Несчастный отец вручил ему шашку с крестообразным эфесом. Шашка эта, хотя и сделанная руками гяура, была страшна для шайтана.
– Мне пленный гяур рассказывал, – говорил Урсан, – что это как-то так Аллах уж устроил, что вот, видишь ли, шайтана этот крест будто огнем палит…
– Тсс… – прошептал на это джигит, – слышишь?..
На горе раздавались плач малютки и протяжная колыбельная песня горного духа. Как дикая кошка, запрыгал Ширар с утеса на утес, через стремнины и пропасти, стремясь быстро к вершине скалы. Горный дух старался нагнать сон и на Ширара, но тот, зная, что это очарование демона, вспоминал о шашке, и дремота спадала с глаз его. Закутав башлыком голову, чтобы не слышать упоительных звуков, Ширар подымался все выше и выше. Сделав еще несколько шагов, он обомлел от восторга и упоения… Перед ним стояла абазинка, легкая, как серна гор, как воздух, красивая, «как первая из жен Магометова рая; она казалась сотканною из зари и воздуха. Наряд ее был так прозрачен, что целомудренный Ширар мог бы сосчитать каждую розовую жилку на персях пери».
Храбрый джигит впился в прелести красавицы; язык онемел, он готов был поддаться обольщению, но мысль о шашке спасла его и на этот раз. Ширар бросился дальше и, в пять отчаянных прыжков, стал в нескольких шагах от горного духа. Последний схватил малютку, вытянулся во весь свой гигантский рост и, подняв его над пропастью, показывал готовность спустить туда свою жертву. Ширар остановился в недоумении; горный дух отступил от пропасти и положил малютку на прежний ковер цветов. В это время далеко внизу, под скалою, раздался отчаянный крик Гих-Урсана, придавший решимости Ширару. Пользуясь тем, что горный дух отделил свою руку от ребенка, смелый джигит с гиком и проклятием бросился на врага и, отломив рукоять от шашки, швырнул ею в демона. Скала дрогнула и пошатнулась в своем основании…
Горный дух со страшным стоном и воплем упал на дно пропасти, известной в народе под именем Пропасти больного демона (щайтаа-саи-набрик), из которой слышатся и теперь постоянные стоны и вопли…
С тех пор между абазинами существует поверье, что если новобрачные желают иметь первенцем сына, то стоит только молодым провести три ночи над этою пропастью – и желание их немедленно осуществится.
Кроме того, в Абазии есть еще гора, о которой в народе ходит легенда, одинаково напоминающая сказание о Прометее и Антихристе. Гора эта носит название Диц. Находясь неподалеку от абазинского аула Баг, гора эта, опоясанная тремя рядами скал, имеет чрезвычайно суровый и пасмурный вид. В скалах, окружающих гору, видно несколько глубоких пещер. На самом верху горы находится черное отверстие, внушающее неподдельный страх каждому туземцу.
– Худое тут место для каждого живого человека, – говорит абхазец, указывая на отверстие.
По сказанию народа, отверстие это составляет единственный выход из глубочайшей пещеры, доходящей до самого основания горы. В глубине ее лежит Дашкал, прикованный к горе семью цепями. Он явится перед кончиною мира между людьми для того, чтобы восстановить брата на брата и сына против отца. Подле Дашкала лежит огромный меч, который он силится достать, но не может, потому что время его царства еще не пришло. С досады он потрясает иногда свои цепи, и тогда горы дрожат, а земля колеблется от одного моря до другого. Когда придет его время, тогда он достанет меч, разрубит им связывающие его оковы и явится в мир губить род человеческий.
– Кто же видел Дашкала? – спрашивал один из русских путешественников.
– Как! – восклицали провожавшие его туземцы. – Да на это не решится ни один человек! Избави Аллах! Говорят, один абазинский пастух, по глупости, спустился в пещеру и, увидав Дашкала, от испуга сошел сума.
Туземцы действительно боятся горы Диц и стараются, если можно, обойти ее.
Суеверие народа обеспечило существование женщин-гадальщиц, ворожей и знахарок. Такая старуха есть в каждом ауле: она и лекарка, и сваха, и гадальщица. Они лучшие посредницы во всех горских любовных похождениях. Передать тайну юной горянки предмету ее страсти молодому наезднику; добыть травки силотворной или питья, зелья приворотного, на случай, если бы понадобилось завербовать чье-нибудь сердце, – это их дело. Гаданье этих старух, «ветхих как сорочка джигита», состоит в том, что они льют коровье масло на огонь и по цвету пламени предсказывают будущее или смотрят в чашу с чистою водою; бросают в реку стружки и наблюдают, прямо ли поплывут они или закружатся; разматывают клубок ниток, отсчитывают на нем неровности и по числу их определяют долголетие любопытных. Главную же роль в их гаданиях играют травы, зола и лучинки.
Придавая большое значение гаданию, абхазцы верят в существование колдунов, ведьм и водяных. Последние носят название дзызла и водятся в омутах, реках и особенно под мельницами.
Водяные черти, а преимущественно чертовки, в представлении народа резко отличаются от подобных же существ других стран. Абхазская дзызла имеет необыкновенно большие, висячие груди, которые она закидывает за плечи «для удобства, а может быть, и для красы». Никто из смертных не увлекался еще красотою чертовки.
«Это совсем не то, что хорошенькие имеретинские триськали или славянские хохотуньи-русалки, которые, пожалуй, и с ума сведут, и защекочут, но зато, хоть на время, дают и счастье своим любимцам, а злые, сварливые, зубастые бабы, только норовящие, как бы поймать безоружного и прямо утопить».
Народ проставляет себе эту водяную обитательницу женщиной свирепой, но глупой, имеющей нечто человеческое и по ночам сидящей над омутом и плачущей. Плач дзызлы не поэтический, а простое надувательство и желание обмануть добросердечного смертного и, поймав его, утопить.
Глава 3
Абхазское селение. Дом. Одежда. Абхазская женщина и положение ее в семействе. Брачные обряды. Гостеприимство и пища. Семейный быт. Рождение, воспитание и аталычество. Похороны
Переплетенные сарсапарелью ясень, ольха и дуб окружают по большей части с обеих сторон все дороги Абхазии. Изредка кое-где показываются маленькие сырые полянки, покрытые папоротником; холмы сменяются долинами, перелесками, полянками, и наконец является окаймленная небольшими горами долина, на которой, то группами, то в одиночку, разбросаны увитые виноградными лозами грецкие орехи, огромные дубы, а между ними мелькают изгороди, виднеются редкие кровли сакль и торчащие, наподобие русской голубятни, амбары для кукурузы. Таков общий вид этой страны.
Деревень, в европейском смысле, не встречается в Абхазии. Население не сосредоточивается в дружных, скученных жильях, а, напротив того, каждая сакля, со своими незатейливыми службами и небольшими огородами, стоит совершенно особняком и не имеет связи с другими. Деревня, несмотря на то что абхазцы живут небольшими группами, от пяти до десяти семейств, рассыпается по холмам и косогорам на значительное расстояние, и оттого местность принимает вид огромного и великолепного парка, посреди которого как будто «устроены лачужки для сторожей». Дорога редко когда идет мимо жилья, и случается, что проезжий, находясь посреди деревни, не видит ни одного строения.
Кроме роскошной природы, бедность и нищета окружают как жителей собственно Абхазии, так и соплеменные им горские общества абазинского племени. Жалкие аулы последних были раскинуты по дремучим лесам Черных гор, в верховьях ручьев и речек. Все богатство абазина, все его хозяйство заключалось в нескольких саженях земли, засеянных пшеницею, в небольшом огороде с кукурузою да в сушеных и квашеных лесных плодах. Сакля его вечно скрыта в дремучем лесу или повисла над бездною и сообщается с землею только едва заметной тропинкой, проходимой для одного туземца, привыкшего к горам и любящего, как зверь, свой темный лес.
Та же раздельность и такая же бедность составляют характеристику и абхазцев.
Дома в Абхазии похожи на плохо устроенную корзину, в которой сучья деревьев до такой степени дурно переплетены между собою, что образуют множество отверстий, в которые можно просунуть кулак. Сплетя себе из хвороста квадратную или круглую, смотря по вкусу, клетушку, накрыв ее сверху камышом, кукурузными листьями или, наконец, папоротником, абхазец считает, что построил себе дом, лучше которого и желать нечего. Перед дверью он делает небольшой навес, внутри у одной из стен – очаг, с такой же плетеной трубой – и сакля готова. В ней он проваляется кое-как зиму, лежа около очага на войлоке или бурке, и лучшего помещенья он не желает и не ищет. Постройка такой сакли стоит одной коровы. Низенькая перегородка делит саклю на две половины, которые, смотря по достатку хозяина, назначаются: одна для мужчин, другая для женщин или большая для людей, меньшая – для скота. С двух сторон, по стенам сакли, ставятся длинные деревянные скамьи, из которых на одной лежит перина или войлок – это мебель сакли. Посредине, на земляном полу, раскладывается костер и служит для обогревания семейства; над костром висит железная цепь с крючком, для поддерживания котла. Свет костра, сквозя через стены, отсвечивается ночью на деревьях красноватым цветом и, смешиваясь с мириадами светляков, искрящихся в земле, представляет издали довольно фантастическую картину. В углах стоят сундуки, преимущественно красного цвета, окованные железом и заключающие в себе все фамильное имущество; возле них стоит кадка с кислым молоком, любимым напитком туземца. На дырявых стенах, над нарами, висит оружие: ружье в чехле, шашка и кинжал; тут же приклеена какая-нибудь грубая лубочная картинка, «изображающая черта с двумя рогами и глупо растопыренными руками» или что-нибудь в этом роде. Над головами протянута веревка, через которую перекинуты платья и разного рода тряпки.
«В скотной половине меньше удобств, – говорит очевидец, – и из мебели в ней я заметил только одно корыто».
Неподалеку от такого дома видна еще клетушка или корзина, величиною до одной кубической сажени, – это амбар абхазца. Он сплетен также из сучьев и поставлен на четырех столбах до одной сажени высотою. Последнее необходимо для предохранения небольших запасов хлеба от истребления его мышами и крысами.
Дома князей, зажиточных и известных дворян, отличаются несколько большим удобством. Жилища такого рода составляют два строения: большое – асасайра (гостиная) и малое – ашхора. Большое строение бывает обыкновенно с открытым крыльцом, имеет от трех до четырех сажен длины и от двух до трех сажен ширины. В таком доме делается двое дверей: одни с крыльца и называются верхними, другие в задней стене и называются нижними. Само строение, дощатое или плетеное, вымазанное глиною и покрытое или соломою, или дранью. Встречаются, но редко, и такие дома, у которых стены рубленые, а потолки дощатые. Внутри комнаты, по одной ее стороне, делаются нары, по другой ставится длинная скамья. Кругом по стенам, в рост человека, вбиты гвозди для вешания одежды, оружия, конского убора и проч. На земляном полу, посреди комнаты, раскладывается огонь, над которым, вверху аршина на три или на четыре, приделывается дощатый щит или потолок, для того чтобы искры костра не могли зажечь крыши. Таково устройство асасайры.
Как раз против нижних дверей большого строения и в нескольких саженях от него устраивается другое – малое. Оно всегда плетеное, вымазанное, круглое, с конусообразной крышей, вроде калмыцкой кибитки, и занимает всего от четырех до шести квадратных сажен. Внутри оно имеет точно такое же устройство: нары по одной стене, длинная скамья – по другой. Нары покрыты ковром или другой материей, смотря по состоянию хозяина, и на них положены высокой грудой тюфяки, одеяла и подушки – это общий вид ашхора.
Князья устраивают, подобно черкесам, кунахскую: это небольшая комната, иногда с деревянным полом, камином и шкафом. Вход в такую комнату бывает обыкновенно со двора; против двери сделано в земле углубление, в котором разводится огонь.
Дым от горящих дров идет на этот раз в трубу, сплетенную из сучьев и обмазанную внутри глиною, смешанною с навозом. Случается, что подобные комнаты бывают вовсе без окон, по большей же части в стене, противоположной двери, проделывается одно окно, да и то оно постоянно заперто ставней, отпираемой по временам, когда надо посмотреть из кунахской, что делается на дворе; свет в комнату проходит через растворенные двери. По стенам вбиваются также гвозди для вешания оружия, а у богатых на полу разостланы ковры; для омовения, по магометанскому обычаю, имеется таз и кувшин, а для молитвы небольшой коврик.
Угол комнаты, наискось от входа, ближе к которому проделывается окно, считается почетным и предназначается для гостя.
Вообще жилище абхазца бедно и не чисто, сами жители крайне нечистоплотны; грязь и рубища составляют достояние бедных; впрочем, и богатые не очень беспокоятся о чистоте в одежде и в доме.
«Вся посуда в семействе бедняков состоит из небольшого чугунного котелка и двух или трех маленьких ведер, в которых держат молоко; если деревянная посуда течет, то щели замазывают глиною, смешанною с козьим навозом».
Абхазец вообще груб и невежествен; в нем нет стойкости и твердости характера, он непостоянен, не смел и даже робок, вероломен, осторожен и всегда покорен перед сильнейшим.
Ума у абхазцев немного, и к тому же они мало способны к умственному развитию; но у них много практического смысла, и тот круг небольших понятий, который им доступен, разработан ими отлично.
Вся цель, вся жизнь его направлена по большей части на приобретение, по возможности даровое, каких-либо вещественных выгод. Отличительные черты его: воровство, корыстолюбие, в самых мелочных размерах, и отсутствие честного труда и любознательности. Воровство считается молодечеством и удальством. Самым лучшим человеком в крае считался тот, кто произвел более разбоев и убийств. Вся слава состояла в том, чтобы бродить из одного места в другое, из одной засады в другую, воровать имущество неосторожных лиц, их скот, а при удаче и самих поселян для продажи в неволю.
– Ты еще, кажется, ни одной лошади не сумел украсть, – говорит часто в укор девушка молодому парню, – ни одного пленного не продал.
– Помоги тебе Бог, – говорит мать, благословляя сына и передавая ему в первый раз шашку, – этой шашкой приобрести много добычи и днем и ночью.
Понятия абхазца почти во всем противоположны понятиям европейским. «Их идеалы – идеалы голодного дикаря и разбойника; их характер деморализован. Разбойник есть самое занимательное лицо абхазских сказок; он искони пользовался почетом, славою, даже безопасностью. Беспрерывные набеги чужих народов, мелкая тирания, продажа людей, вредное влияние магометанства – все это довело народ до страшного нравственного ничтожества, сделало его ленивым, беспечным и нечестным». Характер абхазца глубоко испорчен. Несмотря на эту испорченность, на многие безнравственные черты в народе, нельзя все-таки отрицать в нем известной доли благородства.
Князья и дворяне, в особенности те, которые получили воспитание, вежливы и честны.
Вообще абхазцы держат себя свободно, говорят с каждым без стеснения, подбоченившись или опершись на ружье.
Гордость и сознание собственного достоинства проглядывает во всех движениях абазинского племени, которое отличается большой суровостью и воинственностью, уступающею только одним черкесам. Занимая весьма лесистую и гористую местность, абазины дрались всегда храбро, преимущественно пешком, и пользовались славою отличных стрелков.
Абазин честен, прям и откровенен. Испытанный в беспрерывной вражде с соседями и русскими, он всегда смел и любит опасности, с которыми родится и умирает. В домашней жизни, одежде и вооружении абазины не только мало отличаются, но совершенно сходны с черкесами, и только две особенности, весьма приметные для жителя гор, отличают черкеса от абазина: кафтан и башлык. Кафтан, с нашитыми на груди патронами, абазины носят гораздо короче черкес и обвивают башлык около шапки в виде чалмы, когда концы его не распущены по плечам в защиту от дождя. Черкесы подобным образом башлыков никогда не носят.
Черкесы носят всегда башлык белого цвета, а абазины и абхазцы предпочитают башлыки темных цветов; жители собственно Абхазии носят башлык, подобно черкесам, с распущенными концами. Вообще одежда абхазца весьма близко подходит к черкесской, но абхазец чисто и щегольски никогда не одевается. На нем почти всегда надета оборванная, вечно дырявая под мышкой черкеска, сшитая из грубого сукна домашнего приготовления; узкое, короткое нижнее платье, с ноговицами другого цвета, остроконечная шапка, всегда прикрытая башлыком, и рыжая бурка – вот и весь его костюм. Жители селений, ближайших к Мингрелии, носят иногда мингрельские и имеретинские шапочки, но предпочитают, впрочем, свой национальный костюм. На ногах, не всегда однако же, туземец носит постолы — обувь среднюю между русским лаптем и турецким башмаком. Постолы изготовляются из сырой кожи, прикрепляются к ноге ремнями и вооружены шпорой. Князья носят черные или красные черкесские чувяки.
Абхазец вооружен кинжалом, который носит за поясом, шашку – у бедра, ружье – за плечами; а на пояс он надевает пороховницу и металлический ящичек, в котором хранит сало для смазывания пуль.
Цвет лица его смуглый, рост средний, волосы черны и перепутанны, вся фигура костиста и сухощава; большинство мужчин бреет головы. Жители Сухума и его окрестностей имеют цвет лица бледно-желтоватый.
Красота мужчин в Абхазии преобладает над красотою женщин, тогда как у абазин наоборот. Там женщины и девушки прекрасны в полном значении этого слова; они рослы и стройны до очарования. Здесь между женщинами встречается весьма много лиц замечательной красоты. «Принадлежа к числу тех соблазнительных горских красот, – говорит очевидец про одну из девушек, – о которых предание носится по всему востоку, и наивно кокетливая, рисуясь выказывала она свою тонкую талию и пышный стан, обтянутый синим бешметом, белизну маленьких рук и белизну ног, выглядывавших из-под красных шелковых шаровар, вышитых золотом. Длинные черные волосы, густою волною, падали по плечам; глаза горели тусклым огнем под белою кисейною чалмою: она поражала своею красотою».
При необыкновенной белизне и нежной, розовой прозрачности тела, природа наделила абазинок черными кудрями и черными глазами, опушенными длинными и мягкими ресницами. Турки, скупая горских красавиц, предпочитали всем другим абазинок и черкешенок.
Наружность мужчин, как и всех горцев Кавказа, приятна: они смуглы, худощавы и черноволосы; выражение лица их всегда умное, смелое и доброе. Глаза живые и быстрые, получающие, в минуту гнева, какой-то особенный блеск, который, при смуглости лица, часто обезображенного вспышкою гнева, придает их взгляду особую страстность.
Женщины в Абхазии, как и везде, гораздо чистоплотнее и опрятнее мужчин. Исполняя все полевые и черные работы и занимаясь всем домашним хозяйством, абхазки одеты в чистое ситцевое платье, покроем своим подходящее к европейской одежде, и белые покрывала.



