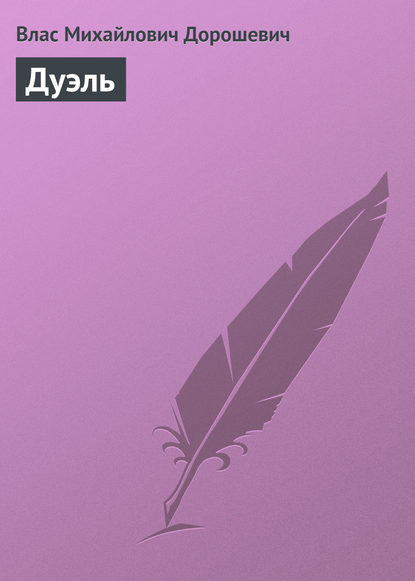 Полная версия
Полная версияДуэль
Что же такое, после этого, «общественное мнение»?
Выйдите из салона и пойдите в швейцарскую. Вон оно – с булавой.
Его роль отлично исполняет швейцар, который пускает всякого, кто чисто одет, и низко кланяется вдобавок тому, кто может дать на чай.
Если полное исчезновение дуэли мыслимо только там, где как в Англии общественное мнение стоит на высоте, то при таком общественном мнении как у нас нельзя и мечтать о полном исчезновении дуэли.
Но, с другой стороны, – с точки зрения логики, с точки зрения чувства истинной порядочности, стоит ли, можно ли так дорожить «мнением швейцара», чтоб ставить его даже выше жизни?
«Общественное мнение», которое запрещает красть, но «задолжать и не заплатить» считает ни во что!
– Кто же из порядочных молодых людей не должен своему портному? – улыбается «общественное мнение».
Хотя трудно понять, не сидевши в арестантских ротах, какая именно разница между тем, что человек просто украдёт пару платья или обманет портного обещанием заплатить.
«Общественное мнение» строго карает за кражу носового платка.
Но когда крадут не носовой платок, а счастье всей жизни, честное имя, когда разбивают семейный очаг, «общественное мнение» только пожимает плечами, если была увезена одна жена:
– Увлёкся!
Хихикает, если человек отбил двух жён:
– Однако.
И, дуясь для вида, в сущности захлёбываясь, говорит, как о «герое», о человеке, который увозит уж третью жену:
– Нет, каков Дон Жуан!
Что же понимает это «общественное мнение» под словом «честь»?
Икс ударил Игрека.
И «общественное мнение» говорит:
– Игрек обесчещен.
Но если Игрек, зная за собой грешки, догадался о намерении Икса, «предупредил событие» и первый ударил Икса, тогда обесчещен Икс!
Честь – это вроде мячика, который от ударов летает от одного к другому.
Нечто вроде «лапты».
«Ррраз» – и честь полетела куда-то на воздух… «Ддва!» – и бесчестие полетело к противнику.
Стоит ли эта эластичная «честь», летающая друг от друга, и это эластичное бесчестие, отлетающее от удара, – стоят ли они чего-нибудь?
Честь ли это, наконец?
У нас за «честь» часто принимается её суррогат «амбиция».
Это две вещи, которые очень часто смешивают, и которые отнюдь не следует смешивать.
Разница между ними та же, что между часами и цепочкой.
Можно иметь великолепную цепочку и вместо часов носить ломбардную квитанцию.
Так часто делают молодые люди, и все, глядя на цепочку, думают:
«Значит у него есть и часы».
Тогда как часов-то давным-давно уж нет, а имеется для вида одна цепочка.
Честь и часы мы имеем для себя. Амбиция и цепочка без часов – это то, что носят для вида.
Можно не иметь никаких часов, но чудную цепочку.
В сороковых годах в Москве один господин, принадлежавший к хорошему обществу, но любивший вместе с тем передёрнуть, был изобличён в нечестной игре.
– Вы шулер! – воскликнул партнёр.
– Я сам знаю, что я шулер, но не люблю, когда мне об этом говорят! – отвечал тот и дал партнёру по физиономии.
Вот вам проявление «амбиции».
И наиболее бросающиеся в глаза цепочки носят именно те, у которых нет даже ломбардной квитанции на часы.
Вспомните хотя бы наделавший в своё время много шума парижский процесс Жака Сен-Сэра и Комп.
Среди лиц, обвинявшихся в шантаже, была масса таких, с которыми считалось даже честью «переведаться на шпагах».
Настоящих «законодателей дуэли», людей с сильно-развитым point d'honneur'ом, людей, не простивших бы ни малейшего посягательства на их «честь».
Достаточно сказать, что один из участников почтенной компании как раз на следующий день должен был драться на дуэли, но как раз накануне следователь отправил его в тюрьму, – его, «человека чести», за шантаж, мошенничество, систематическое ограбление больного, умирающего человека!
Что доказывает собою дуэль?
Что мы имеем дело с человеком храбрым.
Положим, Наполеон говорил:
– Я не верю храбрости дуэлистов. Латур-Мобур, храбрый из храбрых, никогда не дрался на дуэли.
Но нужно быть самому Наполеону, чтоб иметь право так судить о храбрости других. И надо быть Латур-Мобуром, чтоб не бояться подозрения в трусости.
Мы готовы признать за дуэлистами какую угодно храбрость.
Был ли Яго храбр?
Несомненно. Иначе бы он не пользовался таким уважением своего боевого товарища, славного полководца Отелло.
Есть ли в Яго что-нибудь похожее на «человека чести»?!
«Трус боится пули, щекотливый человек боится говора света, но люди чести всего более боятся своей совести».
Честь – это то, что существует для внутреннего употребления, амбиция – исключительно для наружного.
Человек чести, действительно, человек чести, не сделает бесчестного поступка, будучи один, в герметически закупоренной комнате.
Потому что можно бежать от всего и от всех, кроме самого себя.
И честь, зарезанная бесчестным поступком, всегда будет хрипеть:
– Ты – негодяй. Ты убил меня. Ты сделал бесчестное дело.
И это хрипение зарезанной чести всегда будет звучать в его душе, громче лести и похвал, которыми стал бы окружать его свет, не знающий об его подлом поступке.
Тогда как для человека, лишённого внутреннего чувства чести, важно только одно:
– Чтоб другие не знали.
Когда же другие узнают об его бесчестности, он вызывает обличителя.
И продолжает гордо высоко держать голову.
Так что, признавая дуэль, мы даём, с одной стороны, бесчестному возможность безнаказанно совершать всё, что ему угодно, без опасности быть изобличённым:
– Иначе – к барьеру!
Даём тому же бесчестному способ выйти «с честью» даже в том случае, когда он изобличён.
А с другой стороны, ставим каждого честного в смертельную опасность от каждого дерзкого.
– Или деритесь с ним или мы сочтём тебя бесчестным.
Мы даём свободу дерзости и возможность бесчестию выходить «с честью» из своего положения.
Затворяем двери пред честным, потому что у него не хватило мужества стреляться, и широко распахиваем их перед бесчестным, потому что он выстрелил из пистолета!
Что доказывает дуэль именно в вопросе о «чести»?
Разве вопрос в ударе, а не в том, что человек заслужил такой поступок?
Если он заслужил своими дурными поступками, то какая же дуэль уничтожит предшествующую бесчестность его действий?
Разве что-нибудь изменится? Нехорошие поступки станут хорошими?
Дуэль кончает собою всё недоразумение. И в этом её недостаток.
В каждом отдельном случае мы ровно ничего не знаем:
– Кто прав, кто виноват?
Мы знаем только:
– Они дрались.
И на вопрос:
– Честный или бесчестный это человек?
Мы можем только ответить:
– Он храбрый человек.
Это всё равно, что:
– Умён X или глуп?
– Он поднимает 4 пуда.
Что же доказывает дуэль?
– «Возьмём конкретный случай, – говорит Дюпен старший. – Икс нанёс Игреку тяжкое оскорбление, «смываемое только кровью». Икс признаёт дуэль. Что же он хотел сказать своим поступком? Почему он не послал вызова? Ясно, что он хотел сказать и сказал нам: «Вот человек, с которым нельзя выходить на поединок как с равным. Его можно только наказывать за дурные поступки, как наказывают существа ниже нас. И я его наказываю». Но через пять минут Игрек прислал ему вызов, и Икс этот вызов принял. Что же он теперь говорит нам: «Нет, господа, с ним можно стать на одну доску, это вовсе не низшее существо, которое можно только наказывать. Я был не прав, считая его таковым». Не заключается ли в этом приёме вызова – отказа от своего мнения об Игреке? Сознания своей ошибки? Своей неправоты? Если нет, то где же здесь логика? Какое же значение этот поединок имеет для Игрека? Если он, действительно, совершил поступок, противный чести, то разве этот поступок перестанет существовать? Если он ничем не заслужил нанесённого ему оскорбления, то разве чувство справедливости, свойственное каждому честному человеку, не возмущает эту несправедливость: «Я позволяю врагу делать со мной незаслуженно всё, что ему угодно, – лишать меня чести или жизни». Я бы сказал, что это похоже на христианское подставление врагу левой щеки, когда ударили по правой, если Игрек сам не держал при этом оружия. Каждый раз, когда наш покой, покой общества, нарушен, мы в праве требовать, чтоб нам объяснили, почему это сделано. И вот, когда мы подходим с тем, чтобы узнать, в чём дело, узнать, кто прав, кто виноват, узнать, было ли это оскорбление заслуженной карой или несправедливостью, – перед нами вместо ответа, – X (икс) из двух скрещенных шпаг!»
«Дуэль, – восклицает Дюпен в другом месте своего замечательного диспута, – дуэль, по словам моего оппонента, одного из стажёров, не выдерживает натиска логики. Мой молодой друг ошибается, не натиска, а прикосновения. Дуэль в том виде, как мы её теперь рассматриваем, лопается как мыльный пузырь, едва логика хочет к ней прикоснуться, желая исследовать: что ж это такое?»
Всё это, разумеется, отлично понимается и обществом, тем не менее, посылающим своих членов на поединки.
Обществу в сущности очень мало дела до чести. Но оно требует, чтоб у всех была амбиция.
– Какое мне дело до того, есть ли у тебя часы. Покажи только свою цепочку!
В обществе принято, чтобы все носили цепочку, и оно не желает залезать в чужие карманы: есть ли там часы.
Оно понимает, что причины, по которым оно требует в известных случаях дуэлей, причины очень поверхностные.
И из-за поверхностных причин не требует глубоких ран.
– Выстрелите и приходите обратно!
Это самое возмутительное, что есть в отношении общества к дуэли.
Общество, которое требует крови, – жестокое общество.
Но общество, которое требует только порохового дыма, – просто любит скверный запах.
Такое отношение общества возмутительно во многих отношениях.
Более тяжкие дуэли имеют одну хорошую сторону.
Они устрашают и заставляют людей внимательнее следить за своими отношениями друг к другу.
Но что придётся сказать об обществе, в котором безрезультатные дуэли войдут в обыкновение?
Где можно будет и лишать чести и восстановлять честь с такой лёгкостью?
Тяжкие дуэли редко вызывают подражания.
Тогда как безрезультатные вызывают целые «поветрия» дуэлей.
И общество относится к ним добродушно, пока кто-нибудь не поплатится жизнью или здоровьем из-за какого-нибудь пустячного повода.
Тогда начинаются крики, ахи, охи, вопли!
– Варварское обыкновение! Предрассудок! Возмутительно! Бесчеловечно!
Но уж поздно.
Нам кажется, что лучше и честнее для общества говорить об этом ante, а не post factum.
Насколько могли, мы развернули перед вами историю дуэли, привели различные взгляды на неё, и теперь нам остаётся только резюмировать сказанное.
Несмотря на все доводы философов и моралистов, несмотря на все старания законодательств, как это видно из опыта многих веков и всех европейских народов, дуэль может окончательно исчезнуть только там, где общественное мнение, мощное и непоколебимое, само блюдёт законы чести и наказывает ослушника.
Но вряд ли и самого холодного англичанина можно считать навсегда застрахованным от дуэли.
Варварский предрассудок или почтенный обычай, но она будет, вероятно, существовать до тех пор, пока будут существовать смертельные обиды.
Такие обиды, когда человеку невыносима мысль о том, что тот, отнявший у него лучшее, что есть в жизни, существует на свете.
Земной шар покажется тесным для двоих таких людей.
И обиженный скажет обидчику:
– Мне невыносима мысль о том, что ты существуешь на свете. Но я не могу убить беззащитного. Вот тебе оружие. Защищайся. Мне легче моя смерть, чем твоя жизнь. Убей меня, или я убью тебя.
И общество к такому случаю отнесётся, как оно относится к редкому, исключительному несчастью.
Но общество не может, если оно честно, не смеет допускать того, чтоб обычай превращался в «простое обыкновение».
Мы понимаем ту «благородную умеренность», которую выскажет оскорбитель и о которой говорит панегирист дуэли Нугаред де Файе.
«Я и без того оскорбил противника, – скажет он, – с меня довольно».
И не будет стараться убить.
Но если обе стороны выскажут «благородную умеренность», тогда общество в праве спросить:
– Милостивые государи, зачем же так много ничего из шума, и так много шума из ничего.
И оно обязано это спросить, так как примеры заразительны.
У нас есть юноши, и поветрие может закончиться печально для кого-нибудь из «малых сих», «соблазнять» которых запрещает и чувство христианской и общечеловеческой морали.



