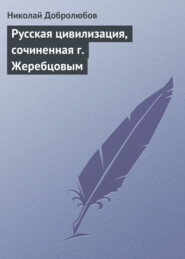 Полная версия
Полная версияРусская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
Совершенно другие результаты представляет псевдопатриотизм, иногда с удивительным бесстыдством прикрывающийся именем истинной любви к отечеству. Он совершенно противоположен настоящему патриотизму, Тот есть ограничение общей любви к человечеству; этот, напротив, есть расширение, до возможной степени, неразумной любви к себе и к своему и потому часто граничит с человеконенавидением. Тот является вследствие разумного определения своих отношений к миру и вследствие сознательного выбора частной деятельности; этот же является в недорослях, не добившихся до разумных определений, не умеющих понять своего места в мире и старающихся хоть как-нибудь и куда-нибудь пристроиться, чтобы носить, по возможности, почетное звание и тунеядствовать. Проявления подобного патриотизма замечаются уже и в детском возрасте, если дети получают ложное развитие. Так, патриотизм, соединенный с человеку ненавидением, обыкновенно выражается в них какою-то бестолковой воинственностью, желанием резать и бить неприятелей во славу своего отечества, между тем как воинственный мальчишка и не понимает еще, что такое отечество и кто его неприятели. Та же самая исключительность, соединенная с сознанием собственного бессилия, видна в патриотических и корпорационных спорах мальчишек, когда они поступят в школу. Если в школе есть мальчишки разных национальностей, то непременно они начнут хвалиться друг перед другом и выказывать неприязненные расположения, которые пропадают только по мере большего развития мальчиков. Тут же имеет место другое явление, весьма близко сюда подходящее: мальчики перекоряются друг с другом, хвастаясь, что один был в таком-то пансионе, другой учился у такого-то, третий брал уроки у таких-то учителей и т. п. Все эти споры имеют один источник: мальчику хочется чем-нибудь похвалиться насчет своего ученья; но сам он слишком слаб и ничтожен, чтобы иметь возможность опереться на собственные знания и рассуждения; вот он и пристраивает себя к авторитету учителя или школы и старается превозносить их пред всеми другими с тем, чтобы лучами их славы озарить себя самого. Замечательно, что чем умнее и деятельнее мальчик, тем скорее пропадает у него охота хвастаться своими прежними учителями. Через несколько времени общего пребывания в одной школе такая охота только и остается уже у самых пустых и безнадежных лентяев. Подобное этому явление представляли старинные слуги, тип которых столько раз был уже изображаем в наших романах и повестях. Не находя в себе никакого собственного, личного значения, не видя возможности опереться в чем-нибудь на самих себя, потерявши благородный эгоизм самобытной личности, но будучи одержимы мелочным и грубым самолюбием, – они постоянно старались придавать себе важности непомерным превозношением своих господ. И замечательно, что их дифирамбы своим барам, составленные чисто с холопской точки зрения, обыкновенно имели характер, не слишком хорошо рекомендующий превозносимых господ в глазах человека порядочного. Но старый слуга не подозревал этого: он рассказывал с необычайной наивностью похождения своего барина, с убеждением в их безукоризненном величии и с мыслью, что вот, дескать, смотрите на нас, – каким господам мы принадлежали!..
Люди, входящие в подобную роль – неопытного, заносчивого школьника или престарелого, недальнего слуги, – обнаруживают, конечно, весьма низкую степень развития нравственного и умственного. Подобно этому – и псевдопатриоты, фразисто расписывающие свою любовь милому, славному, великому отечеству, доказывают только, что им, кроме фраз, нечем заняться. Их развитие не так высоко, чтобы понять значение своей родины в среде других народов; их чувства не так сильны, чтобы выразиться в практической деятельности; их личность не столько самобытна, чтобы в собственных силах искать прав на какое-нибудь значение. И вот эти нравственные недоросли, эти рабски ленивые и рабски подлые натуры делаются паразитами какого-нибудь громкого имени, чтобы его величием наполнить собственную пустоту. Нередко это громкое имя бывает – отечество, родина, народность, и тут уж не бывает конца цветистым фразам и реторическим изображениям, лишенным всякого внутреннего смысла. На деле, разумеется, не бывает у этих господ и следов патриотизма, так неутомимо возвещаемого ими на словах. Они готовы эксплуатировать, сколько возможно, своего соотечественника, не меньше, если еще не больше, чем иностранца; готовы так же легко обмануть его, погубить ради своих личных видов, готовы сделать всякую гадость, вредную обществу, вредную, пожалуй, целой стране, но выгодную для них лично… Если им достанется возможность показать свою власть хоть на маленьком клочке земли в своем отечестве, они на этом клочке будут распоряжаться, как в завоеванной земле… А о славе и величии отечества все-таки будут кричать… И оттого они – псевдопатриоты!..
Наведенные на эти замечания «Опытом об истории русской цивилизации», мы, однако же, высказали их вовсе не с тем, чтобы применять к г. Жеребцову что-нибудь из того, что нами сказано о патриотизме. Распространяясь об этом предмете, мы имели в виду только вот какую цель. В продолжение нашей статьи нам неоднократно придется указывать на мнения г. Жеребцова, внушенные ему, очевидно, его патриотическими чувствами. Чтобы не надоедать читателям повторением одних и тех же рассуждений по поводу их, мы и решились высказать предварительно и разом наше понятие о разных родах патриотизма или того, что нередко скрывается под этим именем. После этого мы уже считаем возможным избавить себя от подробных объяснений по поводу разных мнений г. Жеребцова. Мы станем только указывать их, и читатели, надеемся, сами уже легко поймут, к какому разряду отнести патриотизм «Опыта об истории цивилизации в России».
Прежде чем мы раскроем некоторые подробности взгляда автора на русскую цивилизацию, мы считаем нужным обратить внимание на его понятия о цивилизации вообще. В этом случае г. Жеребцов имел себе прекрасный образец в Гизо, которого первая лекция о цивилизации во Франции{14} посвящена общим взглядам, так же как и введение г. Жеребцова. Но г. Жеребцов отвращается всего, что может напомнить Запад; он хлопочет о народном воззрении и потому постарался сочинить свое собственное определение цивилизации и элементов, ее составляющих. Вышло действительно что-то не похожее ни на Гизо и ни на какого мыслителя; но, в дальнейшем приложении этого чего-то, автор не выдержал, сбился и съехал опять-таки на того же Гизо. Не вытанцовывается как-то наша самобытность, да и только. Для читателей, позабывших определение Гизо, мы можем привести страницу из его первой лекции; а потом обратимся к г. Жеребцову.
Мне кажется, – говорит Гизо, – что, по общему понятию, цивилизация состоит существенно из двух явлений: развития социального и интеллектуального, то есть из улучшения внешнего положения общества и из совершенствования внутренней природы человека, его личности, словом, из развития стороны общественной и чисто человеческой.
Но мало сказать, что цивилизация состоит из этих двух явлений; надо прибавить, что для ее совершенства необходима совокупность их, ближайшее и одновременное соединение, взаимное действие одного на другое. Хотя и случается, что иногда они разрозниваются и – то общественные усовершенствования, то внутреннее развитие отдельных лиц идет скорее и дальше, – но тем не менее оба явления е могут обойтись совсем друг без друга: они взаимно возбуждаются и производятся одно другим, рано или поздно. Если они долго идут порознь и соединение их наступает не скоро, то душою наблюдателя овладевает ощущение какой-то тягостной пустоты, какого-то уныния, как будто вам чего-то недостает. Когда видишь в народе огромные улучшения общественные, огромные успехи материального благосостояния, не сопровождаемые внутренним развитием человека и соразмерными успехами ума, – то все общественные улучшения кажутся ненадежными, непонятными, даже почти незаконными. Спрашиваешь себя: какими идеями произведено, чем оправдывается это улучшение, с какими принципами оно связано? Хочется уверить себя, что оно не ограничится несколькими поколениями, каким-нибудь клочком земли; что оно сообщится далее, распространится, сделается достоянием народов. Но каким образом общественное улучшение может сообщиться другим и распространиться, если тут нет общей идеи, если доктрина невозможна? Ведь только идеи перепрыгивают пространства, переплывают моря и повсюду бывают непременно поняты и приняты. Такова уж натура человека, что он не может понять громадного развития материальной силы, без участия силы моральной, которая должна к ней присоединиться и управлять ею. Как будто что-то низкое выражается в самом благосостоянии материальном, если оно не приносит других плодов, кроме этого самого благосостояния, если оно не возвышает ум человека в уровень с его внешним положением.
Зато, если блеснет иногда и необычайное развитие умственное, не ведя за собою никаких общественных улучшений, и это заставляет удивляться и беспокоиться. Как будто видишь прекрасное дерево, не приносящее плодов, или солнце, не греющее и не действующее плодотворно на почву. Чувствуется некоторого рода пренебрежение к идеям, которые столь бесплодны, что не в состоянии овладеть миром материальным. Мало того – является, наконец, сомнение в их разумной законности, в их истине; является поползновение считать их химерами, так как они оказываются бессильными и не имеют власти над внешним положением человека. Так сильно в человеке сознание того, что он должен переносить идеи в действительность, переделывать мир и управлять им сообразно с теми истинами, которые он понял и сознал. Таким образом, два великие элемента цивилизации – развитие социальное и интеллектуальное – тесно связаны один с другим, и совершенство цивилизации зависит не просто от их соединения, но от их соответствия, от тех размеров легкости и скорости, с какими они вызываются и производятся один другим.
Когда смотришь на развитие народов естественно, о исторической точки зрения, то определение Гизо кажется почти совершенно удовлетворительным. Оно очень широко захватывает историю народов и очень определительно выражает собою общее стремление нашего времени возводить факты к идеям, а идеи призывать на окончательный суд и поверку фактами. В одном можно упрекнуть Гизо: он слишком резко отделяет моральную силу от материальной, как будто сила находится где-то отдельно от материи, а не в ней самой. Впрочем, в сущности, мысль Гизо может иметь следующий смысл. Бывает, что общественные улучшения, которые должны быть результатом известной степени развития народа, появляются в нем тогда, когда он еще не достиг до этой степени развития. Таким образом – как будто нет нравственной основы для материального благосостояния, и она действительно может не быть в самом этом обществе, а быть принесена извне, и в таком случае само видимое благосостояние общества угрожает непрочностью. В таком смысле – положение Гизо представляется вполне верным.
Но г. Жеребцов не опроверг и не дополнил того, что может подать повод к возражениям у Гизо. Напротив, с тем, что моральная сила есть нечто совершенно особое, вовсе не находящееся в материальных предметах, а навязываемое им извне, – с этим он вполне согласен. Определение цивилизации, сделанное у Гизо, не могло понравиться ему по другой причине. По мнению г. Жеребцова, идеи, управлявшие историей России, начала, по которым народ наш развивался, были всегда высоки, непреложны и благотворны, начиная от новгородских славян и от князя Владимира киевского. Но общественные улучшения вводились в стране очень медленно (этого не может не сознать автор) и вовсе не соответствовали этой высокой степени развития, на которой отдельные лица стояли у нас уже в самые древние времена. Так продолжалось много столетий, и, следовательно, если бы уж признать положение Гизо, то пришлось бы идеи, управлявшие развитием древней Руси, сравнить с негреющим солнцем и признать бесплодными, немощными относительно общественного благосостояния. А г. Жеребцов никак не хочет признать этого; он, напротив, начала древней Руси ставит даже в пример для нынешней. – Следовало, значит, сочинить собственное, народное определение цивилизации, в котором бы идеи и умственное развитие человека были сами по себе, а общественное благосостояние – само по себе. Г-н Жеребцов и сочинил такое определение, в котором превзошел самого себя и из которого он ясно мог вывестъ, что идеи, господствовавшие в древней Руси, вовсе и не должны были способствовать общественным улучшениям и материальному благосостоянию. Вот его определение:
«Совершенная цивилизация состоит, по нашему мнению, в высшем развитии умственных и нравственных способностей всех лиц, составляющих нацию, – в развитии, приспособленном к возможно большему благу всех и каждого».
Определение это, как видите, сделано с совершенно иной точки зрения, нежели определение Гизо. Здесь нет речи об общественном, материальном благосостоянии, а упоминается вообще о каком-то благе. В чем состоит это благо по мнению автора, – трудно понять, не прочитав его книги. Таким образом, определение страдает неопределенностью и принадлежит к числу общих мест, тем более что и «развитие умственных и нравственных способностей» представляет у г. Жеребцова фразу, лишенную определенного содержания. Что он разумеет под нравственными способностями? В чем полагает их развитие? Это остается вопросом, который всяким может быть решаем по-своему. Г-н Орест Миллер полагает, например, что высшее нравственное развитие состоит в принижении своей личности и, если возможно, даже в совершенном отречении от нее{15}, Может быть, и г. Жеребцов близок к подобному взгляду. Тогда – в чем же, по его мнению, будет состоять цивилизация?
Следя далее за г. Жеребцовым, мы находим, что он предъявляет следующие положения. Для полного развития человека и целого народа необходимы, – говорит он, – хорошее знание предметов, уменье хорошо мыслить о них и любовь к общему благу. Таким образом, цивилизация состоит, по выражению г. Жеребцова, в том, чтобы каждый хорошо знал, хорошо мыслил и хорошо хотел. По нашему мнению, совершенство мышления зависит непременно от обилия и качества данных, находящихся в голове человека, и разделять эти две вещи довольно трудно, особенно когда понимать под знанием не поверхностное, внешнее сведение о факте, а внутреннее, серьезное проникновение им, – как и понимает сам г. Жеребцов. Но для него ничего не значит поставить мышление и знание в совершеннейшей отдельности друг от друга, – не только в отдельном человеке, но даже и в целом народе. По его мнению, есть народы, которые много знают, но рассуждают плохо, – и есть другие народы, которые знают мало, но зато рассуждают отлично. В образец последних г. Жеребцов, к немалому удивлению нашему, приводит – Англию! Он уверяет, что у англичан рассудочные способности очень развиты и действуют весьма правильно, – несмотря на недостаток знаний! «Это уж зависит от врожденного расположения народа к рассуждению» (raisonnement), – замечает он. Это объяснение показалось нам чрезвычайно похожим на слова свахи в «Женитьбе». Гоголя: «Что ж делать, это уж так ему бог дал, что ни скажет слово, то соврет. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть: такая уж на то воля божия!» Так и англичане несчастные: уж и сами не рады, а не могут, чтобы не рассуждать; такая уж на то воля божия!..
Мнение автора о недостатке знаний в Англии относится, впрочем, к низшему классу народа. В аристократии он признает достаточные познания. Но, по собственным понятиям г. Жеребцова, народу вовсе и не нужно знать больше того, что он знает и что нужно для исполнения им разных его работ. Так должен полагать г. Жеребцов, судя по тому, что он говорит о высшей степени знания, которую называет усвоением (assimilation), и о том, когда знание это бывает истинно полезным. Усвоенным знанием называет он то, которое не остается просто в памяти, а переходит в убеждение, в жизнь и ведет к дальнейшим выводам и открытиям. О пользе знания говорит он вот что: «Чтобы распространение знаний было полезно и благотворно, нужно следующее существенное условие: знания должны быть распределены в народе так, чтобы каждый мог всю массу своих знаний прилагать на деле, в сфере своих практических занятий, – и наоборот, чтобы всякий хорошо знал то, что может приложить с пользою для себя и для общества на практике». Мы, разумеется, не можем вполне согласиться с таким требованием, потому что из него может вытекать, например, вопрос: зачем мужику грамота, которой он не может ввести в круг своих практических занятий? или вопрос: зачем дворянину учиться географии, когда извозчики есть?.. и т. п. Вообще в разных определениях и мнениях г. Жеребцова видна крайняя незрелость мысли и шаткость его убеждений, происходящая, может быть, от непривычки к рассуждениям о предметах отвлеченных, а может быть – и от той же причины, по которой у г. Жеребцова англичане рассуждают так отлично… В настоящем случае мы находим, что он уж слишком увлекся мыслью о практической приложимости знаний, – опасаясь, вероятно, того, чтобы при большем развитии просвещения каждый не стал рассуждать больше, чем сколько ему дозволяет его звание и состояние. А между тем тот же г. Жеребцов в других местах выражает пренебрежение к практическим улучшениям и хлопочет почти исключительно о высоком развитии умственных и нравственных сил. С этой-то точки зрения он и хотел упрекнуть Англию, заимствовавши свой упрек у Гизо, который говорит, что сторона чисто интеллектуальная, развитие человека, – гораздо слабее в Англии, чем социальная сторона, развитие гражданина. Г-н Жеребцов не сообразил, что, избрав другую точку зрения, надобно уж и проводить ее иначе, и принимался повторять об Англии мысли Гизо. Но у Гизо ясно отделено интеллектуальное и социальное развитие; а г. Жеребцов скомкал это в одно – распространение знаний, да еще сказал, что приложимость (то есть развитие социальное) принадлежит высшей степени знания (то есть интеллектуального); а потом принялся упрекать Англию в недостатке знаний. В путанице, образовавшейся от смешения чужих идей с народным воззрением{16}, г. Жеребцов и не заметил, что если в чем нельзя упрекать Англию, так это именно в недостатке знаний, приложимых в практической деятельности.
Но этим г. Жеребцов не довольствуется. Он взводит на Англию еще обвинение в недостатке любви к общему благу, и здесь опять перефразируя мысли Гизо об интеллектуальном развитии и скрашивая их милыми возгласами о самоотвержении, любви ко врагам и т. п. В объяснение того, отчего в Англии так сильна нелюбовь к общему благу, г. Жеребцов приводит две причины. Первая состоит в недостатке благочестия истинно христианского и евангельского, которое мы не беремся ни оправдывать, ни объяснять. Вторая причина заключается «в превосходстве положения, занимаемого страною, и в ее политической силе, препятствующей в ней развитию чувств смирения и братства». Силою каких умозаключений дошел г. Жеребцов до подобных мыслей, мы опять объяснить не можем. По всей вероятности, русское народное воззрение много участвовало в его изумительной логике.
Продолжая свое обозрение, г. Жеребцов переходит к Франции. К этой стране он очень не благоволит. Знания здесь распространены больше, чем в Англии; но зато степень усвоения их меньше. (А уж и в Англии-то г. Жеребцов находит мало его в народе.) Притом знания распределены не так, как бы хотелось г. Жеребцову. Люди приобретают там много знаний, которых не к чему приложить; вследствие этого многие пускаются в дурные разговоры или в злостные (mechant) писания. Оттого часто и революции происходят во Франции. Этому помогает еще и неосновательность французского рассудка, происходящая оттого, что он знает много лишнего и пускается рассуждать о предметах чуждых ему, как будто о самых близких. Но особенно гибельно для Франции отсутствие в ней любви к общему благу. При мысли об этом г. Жеребцов приходит даже в не свойственное ему раздражение и сначала поражает последние годы прошлого столетия, называя их злополучными (nefastes), затем говорит, что «напрасно Бурбоны, по возвращении своем, хотели действовать с французами как с народом, не совсем еще потерявшим чувства веры и благочестия, и что напрасно хотели вывести французов на дорогу нравственности, бывшей для них противною»… Г-н Жеребцов так вооружен против Франции, что даже и в теперешнем ее состоянии не хочет над нею сжалиться и признать ее цивилизованною, говоря, что в ней слишком развит личный интерес. В этом случае г. Жеребцов строже, чем сам Наполеон III, еще недавно признавший торжественно, что французский народ есть «peuple eminemment catholique, monarchique et soldat» [3], следовательно весьма цивилизованный. Ни одного из этих качеств г. Жеребцов не признает во французах и вследствие того ставит их весьма низко в отношении к цивилизации. За одно только хвалит их наш мыслитель – за патриотизм. «Одно нравственное чувство, – говорит он, – сохранившееся в этой нации, к чести французов, – есть общее стремление к славе своей страны…» Не мешало бы прибавить, что это чувство особенно сильно развито в гасконцах{17}.
К Германии всего более лежит сердце автора. Там находит он и повсюдное распространение знаний, и верность, основательность рассудка, и любовь к общему благу, развитую в большей степени, чем где-либо. О недостатке приложимости теоретических знаний немцев упоминает он слегка, в особенности напирая на их любовь к общему благу. В Германии протестантской, – говорит он, – общая нравственность основывается на убеждениях философских, получающих свою силу от принципов евангельских; в Германии же католической, наоборот, нравственность основана прямо на религии, подкрепляемой и убеждениями философскими. Таким образом, результат выходит в обоих случаях один и тот же, – и вот вам легкое примирение протестантства и католицизма!.. Впрочем, мы все-таки должны здесь заметить, что г. Жеребцов уже слишком решительно поступил, позволив себе сделать такого рода повальный отзыв о целой Германии. Читая этот отзыв, так и представляешь французского туриста, который пишет о России: «Русский народ очень любит французский язык и старается беспрестанно говорить на нем. Вся Россия достигла высокой степени умственного развития, потому что все там умели с первого раза оценить мои достоинства и принимали каждое мое слово с живейшим энтузиазмом» и пр.
Вот какова степень цивилизации главнейших народов Европы; теперь сравним с ними Россию, – говорит г. Жеребцов и вслед за тем приступает к изложению истории русской цивилизации. Изложение это составлено способом довольно легким. Всю историю России г. Жеребцов разделил, разумеется, на два отдела – древний и новый. В первом томе излагается древняя история до Петра; во втором новая, от Петра до наших времен.
Древняя история разделена на четыре периода: дохристианский, от христианства до монголов, монгольский и период царей. Обозрения собственно исторические весьма коротки и скомпилированы большею частию из Карамзина. Из Карамзина же извлечены почти все сведения, излагаемые в главах о внутреннем состоянии России в разные периоды, – по следующим рубрикам: законодательство, администрация, просвещение, нравственность, литература, искусства, промышленность и торговля. Таким же способом составлено обозрение новой истории России; но здесь уже не было для г. Жеребцова руководящей нити, вроде «Истории» Карамзина, и потому фактических ошибок здесь сравнительно больше. Зато объяснение фактов и общий взгляд на развитие России – совершенно одинаково ошибочны, узки и странны, – как в первой, так и во второй части «Опыта» г. Жеребцова. Мы предоставляем себе в следующей статье проследить взгляды автора на различные эпохи русской истории и указать его частные ошибки и увлечения. В сущности, конечно, этого бы и не стоило делать; но г. Жеребцов объявляет себя в своей книге представителем целой партии, известной у нас под именем славянофилов, а в его «Опыте» называемой «le vieux parti russe» [4]. Относительно знаний и силы убеждения это, правда, представитель довольно плохой; но зато он очень полно выразил мнения своей партии, систематически провел их по всей русской истории и весьма откровенно высказал те начала, которым, по его мнению, должен следовать русский народ в своем развитии. Указанием его общих взглядов мы и заключим пока эту статью, с тем, чтобы в следующей проследить их развитие в частностях. Полагаем, что для наших читателей вовсе нет надобности идти в этом случае от анализа фактов к синтезу идей, как полагает это необходимым г. Жеребцов для своих европейских читателей. История наша известна нам более или менее, следовательно, высшие взгляды г. Жеребцова могут быть понятны. А между тем общий взгляд автора на русскую цивилизацию недурно поставить здесь рядом с его воззрением на цивилизацию других народов Европы. Следуя своему учению о трех элементах цивилизации, г. Жеребцов, в заключении своего «Опыта», дает нам определение того, в каком положении эти три элемента находятся в русском народе. Любовь к общему благу, признаваемая у него главным из элементов, приводит его в восхищение высокой степенью своего развития. Великие добродетели находит г. Жеребцов в русском народе: верность православию, набожность, покорность и сострадательность. Добродетели эти помрачаются только ничтожнейшими, по его мнению, пороками: лукавством, недостатком твердости, леностью и наклонностью к чужому. Но и эти ничтожные пороки извиняются тем, что они явились вследствие монгольского владычества. Одно только беспокоит несколько г. Жеребцова: то, что чем выше подниматься от народа, тем нравственность более слабеет. Обстоятельство действительно ужасное; мы вполне это понимаем и придаем этому такое значение, что решаемся привести здесь в переводе слова самого г. Жеребцова, опасаясь изменить что-нибудь в начертанной им картине (том II, стр. 584 <и> след.):



