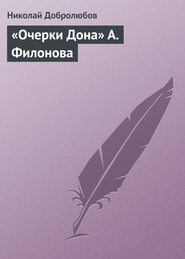 Полная версия
Полная версия«Очерки Дона» А. Филонова
В объяснении недостатков учения в 1805–1807 годах автор «Очерков Дона» является до того наивным, что внушает невольное подозрение, – не воспитан ли он по методе г. Миллера-Красовского, в принципе: не рассуждай… Принцип этот выражается у него в двух явлениях: во-первых, он никак не может перевернуть предмет на разные стороны и открыть сущность дела под внешней оболочкой; а так, – какой стороной вещь пред ним ляжет, та только сторона и отразится в его сознании, – и уж дальнейшего движения и работы в уме не ждите. Во-вторых, если дело идет о старших, начальниках, учителях, преданиях, предписаниях и т. п., то хотя бы они показались ему и прямо дурной стороной, но он старается закрыть и уничтожить эту сторону увесистым силлогизмом, в виде такого булыжника: «А все-таки они старшие», или: «А все-таки они учители, – стало быть, во всяком случае лучше нас, и, следовательно, не надо попускать в себе развиваться мысли о дурных сторонах их…» О том, до какой степени сильны в г. Филонове оба эти явления (несомненные признаки воспитания и принципах г. Миллера-Красовского), могут свидетельствовать следующие факты.
У г. Филонова приводится несколько документов, свидетельствующих, что многие, при всем желании учить своих детей, не имели возможности отдавать их в училище по бедности, а другие бежали от ученья, ужасаясь обращения учителей и всех училищных порядков. В одном донесении директора даже прямо говорится: «А народ, скудостию отягощенный, хотя и желает учить детей, но ежедневные домашние нужды их от того отвлекают: один пасет овец, другой в кузнице помогает отцу, а третий на пашню уехал» и пр. И все эти факты приводят г. Филонова к тому заключению, что в народе не было любви к просвещению. «Мы обязаны сознаться, – говорит он, – что в народе понятия о просвещении были самые жалкие» (стр. 186). Ну, конечно: понятия народа виноваты…
Другой пример: г. Филонов сам же приводит несколько сведений о том, как учителя были глупы, грубы и бессовестны. Учитель Яновский за какие-то пустяки колотил ученика по щекам до того, что у того кровь пошла из носу; учитель Арнольди одного ученика таскал за волосы, а другого колотил по голове за то, что они в его классе писали не в тетради, а на полулисте; учитель Божковскмй был оставляем в гимназии учителем математики нарочно затем, дабы усовершенствоваться в оной; все учение было в долбежку, так что, «когда отвечают ученики, что рай был в Азии, – на вопрос: «Что есть Азия?» – отвечают в одних местах, что «Азия есть растение», а в других, что «Азия есть страна», на вопрос же: «Какая страна – правая или левая?» – отвечают: «Левая», и пр. (стр. 191). Напавши раз на подобные факты, человек, избегнувший принципа «не рассуждать», конечно, мог бы выйти от них к соображениям весьма полезным и важным. Потрудившись над собранием и распределением возможно большего количества фактов и сравнивши их с общим состоянием просвещения и нравов в то время, можно было представить весьма живую и занимательную картину внутренней жизни тогдашних училищ. А занявшись изъяснением причин, от которых происходил у нас везде такой контраст просвещенной формы с самым грубым невежеством в существе дела, можно бы дойти до выводов весьма широких и плодотворных. Но г. Филонов боится рассуждать: свои пять страничек, на которых излагается темная сторона обучения (с обвинением народных масс), он заключает следующими строками:
Прибавим, что мы слышали множество изустных рассказов о первых учителях нашей гимназии, рассказов самого возмутительного свойства; но, говоря словами великого поэта, —
Наставникам, хранившим юность нашу,Всем честию, и мертвым и живым,К устам подъяв признательную чашу,Не помня зла, за благо воздадим…{12}Какая удивительная кротость, и в то же время какое своекорыстие! Ведь по естественному человеческому смыслу надо полагать, что автор «Очерков Дона» будет и сам для себя того же требовать от учеников и от всех вообще младших, – особенно когда он постарше будет… А если кто захочет указать ему его недостатки, того он почтит именем неблагодарного… Вот вам и прогресс, вот и нравственное совершенствование поколений! Принцип благодарности, примененный к истории и выражающийся в ней малодушным молчанием! Очень разумно! Нельзя, видите, раскрыть внутренней жизни училища за пятьдесят лет назад, потому что надо помнить долг признательности к наставникам! А тут еще кричат о гласности, об обличениях и хотят придать этому вид любви к общему благу… Какое общее благо! Неблагодарность, и больше ничего… Если бы мы были проникнуты чувством признательности, столь возвышающим человеческую природу, то всё бы только похваливали и нежнейшим, умильнейшим голоском говорили бы: «Прежде было очень хорошо, а еще прежде – тоже очень хорошо, а теперь – тоже очень хорошо, – а вперед будет – тоже очень, очень хорошо!..» Тогда мы и были бы благонравными детьми, и гг. Ефим Дымман{13}, А. Филонов и Н. А. Миллер-Красовский остались бы нами довольны…
Итак, вот наши молодые наставники и руководители, вот те люди, которые должны готовить к деятельности будущее поколение!.. Они с юности берут себе принципом – остановиться на том, что предано и заповедано старшими, и, делаясь сами старшими, без сомнения те же принципы будут проводить и для назидания своих учеников. Питая их фантастическими бреднями, вроде сочинений Вонлярлярского, да мертвой схоластикой, в виде филологических надрываний г. Майкова над ерами и ерями, они внушают уважение только к формальности, избавляющей от всяких рассуждений, и к голубиной кротости, прямехонько ввергающей человека в обломовщину… А между тем эти люди беспрестанно злоупотребляют именем Пирогова; а Пирогов именно толкует, что воспитание есть приготовление к борьбе, которую человек неизбежно должен начать при самом вступлении в жизнь, если только останется честным человеком и не захочет пасть ниц пред первым попавшимся кумиром…
Впрочем – забавная вещь! – есть жизненные факты, которые заставляют подняться самого залежавшегося человека. Кажется, уж чего кротче, идилличнее, прекраснодушнее, чем автор «Очерков Дона»! Он, как мы видели, более способен витать в «Замке на берегах Дона», сочиненном господином Зряховым{14}, – нежели просто жить в Земле донских казаков; для него, кажется, не только новы, но и совершенно неведомы все впечатленья бытия, точно так, как неведомы дикие утки и непостижим водоворот на реке… Но и этого юношу пробрала жизнь, и его заняла серьезно одна сторона ее и вызвала у него одну жизненную заметку, – кажется, единственную во всей книге. Он выражает недовольство тем, что учительское жалованье мало и что на 393 рубля в год нельзя жить в Новочеркасске… Нашлось-таки, значит, явление, которое и его задело за живое!..
Впрочем, он, вероятно, уже утешился и примирился теперь с своей судьбою, потому что жалованье учителям прибавлено. Притом же он, вероятно, надеется на успех своих «Очерков Дона», которые стоят – как вы думаете, сколько? – полтора целковых!..
Примечания
Условные сокращенияВсе ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.
Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.
БдЧ – «Библиотека для чтения»
ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.
Изд. 1862 г, – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.
ЛН – «Литературное наследство»
Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).
ОЗ – «Отечественные записки»
РБ – «Русская беседа»
РВ – «Русский вестник»
Совр. – «Современник»
Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.
Впервые – Совр., 1859, № 11, отд. III, с. 84–97, без подписи. А. Г. Филонов окончил в 1855 г. Главный педагогический институт, был противником образовавшегося там добролюбовского кружка, распускал о Добролюбове сплетни (см.: VIII, 544). По окончании института направлен учительствовать в Новочеркасскую гимназию. Служивший в той же гимназии А. А. Радонежский писал Добролюбову, что Филонов «издает «Очерки Дона» <…> просит твоей пощады» (цит. по статье: Рейсер С. А. Н.А. Добролюбов и его товарищи в Главном педагогическом институте. – Освободительное движение в России, вып. 3. Изд. Саратовского государственного университета, 1973, с. 18). Статья Добролюбова, конечно, не «месть» бывшему соученику. Критик продолжает в ней свои размышления о ходе русской жизни, о настоящем деле, о задачах нового поколения. Книгу А. Филонова он рассматривает как одну из «литературных мелочей», образец рутинной мысли и рутинного слога с претензией на столичный лоск, новизну.
Возможно, что статья Добролюбова с новым осуждением обломовщины стала одним из поводов для выступления А. И. Герцена «Лишние люди и желчевики» (1860). См.: Русская литература, 1986, № 3, с. 244. О статье Герцена см. наст. т., с. 767.
Сноски
1
Заметим, что Ефремов был сослан по обвинению во взятках и казнокрадстве, – и автор вполне верит обвинению! Каково же после этого его мягкосердечие!
Комментарии
1
См. в наст. т. рецензию на «Пермский сборник».
2
Стихотворение В. А. Жуковского (1812).
3
Речь идет о статье «Что такое обломовщина?».
4
Цитата из стихотворения Некрасова «Песня Еремушке» (1858), одного из особенно любимых Добролюбовым. Он писал И. И. Бордюгову 20 сентября 1859 г.: «Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке» Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике». Замени только слово истина – равенство, лютой подлости – угнетателям; это опечатки… Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой! Сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!..» (IX, 385). «Опечатки», о которых пишет Добролюбов, – цензурные замены.
5
Анонимно изданные книги в стиле вульгарного романтизма и сентиментализма.
6
В. А. Вонлярлярский – незначительный писатель, упоминается рядом с известным в 40–50-е гг. писателем В. А. Соллогубом, к произведениям которого Добролюбов относился отрицательно. См. примеч. 44 к статье «Темное царство».
7
Диссертация Н. Н. Булича – «Сумароков и современная ему критика» (1854); диссертация А. А. Майкова – «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа» (1857).
8
Нарочитое сопоставление новочеркасского священника А. Оридовского и известного ученого Н. И. Пирогова, в 1859 г. выступавшего по вопросам воспитания. См. в т. 1 наст. изд. статью Добролюбова «О значении авторитета в воспитании» и примеч. к ней.
9
Н. А. Миллер-Красовский в «Основных законах воспитания» (СПб., 1859) одним наказаниям предпочитал другие и приводил пример, как один наставник якобы «вылечил» от упрямства мальчика «тремя пощечинами». Это «открытие» было высмеяно в петербургской прессе, в том числе в рецензии Добролюбова (см. в наст. т. с. 300), в фельетоне В. Курочкина «Педагогическое нововведение (письмо в редакцию в стихах и прозе)» (Искра, 1859, № 25). Во второй своей рецензии на книгу Миллера-Красовского (в «Журнале для воспитания») Добролюбов называет ее автора «рыцарем трех пощечин» (V, 235).
10
В статье приводятся письма атамана Ефремова, сложенные в его честь акростихи панегириста XVIII в., материалы о его аресте по указанию Екатерины II и др. Эти документы попали в руки А. Филонова от одного из потомков атамана Ефремова.
11
См. рецензию Добролюбова «Великие Луки и Великолуцкий уезд. Заметки Михаила Семевского» (Совр., 1858, № 1; II, 199–203).
12
Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).
13
О Е. Дыммане см. в наст. т. статью Добролюбова «Новый кодекс русской практической мудрости».
14
Примитивное произведение романтического толка: «Геройство и любовь, или Замок на берегах Дона, российско-исторический роман» (М., 1845).

