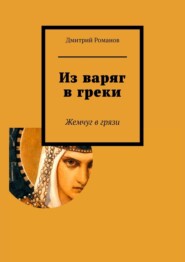
Полная версия:
Из варяг в греки
Малко отвернулся к реке. Вода свистела, как меч из ножен. Злость подкатила, досада омочила глаза, но он искал спасительную нить. Ступая в воду, вспомнил, как совсем недавно сидел с Хельгой у этой же реки. Была ночь, серебро луны мерцало рябью, душные запахи дождя тонули в соловьином пенье.
«Соловей поёт так красно от того, что не помнит прошлого. Что спел, того уж нет, всегда по-новому», – говорил он, хмельной от запаха её волос.
Теперь эти слова обрастали чем-то зловещим. Ведь и река не помнит прошлого. Потому и подземный Ящер княжит забвением, и реки его смывают память, меняют лики сущего так, что не узнаешь никогда их в новой форме. Одно и то же этот мир каждый миг, или всё время разный? А если разный, то, выходит, и вовсе нет его, и не за что держаться. На что ни укажи, того уж нет давно!
Ужас! Глаза мечутся по рваным пластам воды. Зачем он думает обо всём этом? Зачем он идёт на смерть? Как прежде бы – охота по утрам, днём ленивый сон и запах воска с козьей шерстью, а вечером потехи на боях или песни при лучине. Княжичем быть тоже судьба слаще не бывает. А давеча отец объявил его наследником!
Так куда же он лезет?
Рыбьей слизью пахла река. Рука горела от угля.
С омерзением он поглядел вниз – муть дошла ему до живота. Молодое сильное тело разве для того питалось соком жизни, чтобы смыло его в смрадную трясину ракам на корм?
Волна плеснулась у груди, его повело – коварное придонное течение, точно стальной крюк, уцепило ноги. Малко успел оглянуться в последний раз. И увидел её застывшие глаза. Все зеваки на берегу спали. Он готов был поклясться, что их глаза были закрыты. А её – горели. И в них был страх, и восторг, и благодарность.
И он бросился с рыком барса в сторону коряги. Только бы до неё! Там ухватиться, отдышаться, и ещё рывок – и тот берег. А течение тянуло его не только в сторону, но и ко дну, точно поток шёл вниз. Вдруг всё внутри Малко похолодело.
Он ясно увидел содрогание розовой плоти – распахнутая пасть Ящера. Змей свернулся на дне, так далеко, как рыбе не доплыть, камню падать день. Глаза, как два кровавых яйца, безжизненно тлеют по бокам головы. А чёрный зев тянет водоворот пучины за ворот. В него-то и несло Малко.
Наверху было небо весны. И крачка гнула крылья в лучах. И так близко родные стены, люди… Но ещё ближе – Ящер. Рыбе не доплыть, камню день падать – а, всё равно, ближе некуда. Будто в самом его нутре уже этот Ящер. Язык двоится вокруг сердца. Малко почувствовал теплоту опорожнения кишок, вода тут же смыла срам. Вода всегда смывает самое гадкое – не потому ли её так любят гады?
Он плакал и барахтался, взывая к Стрибогу, что легче ветра. Потом просто кричал «Мама!». Но никто не слышал его криков – ни мать, ни Стрибог. Ящер оплёл его, мышцы свело, а в глотке хрипела вода.
Он долго не мог понять, что давно уже лежит на мели, а мутная от ряски вода заливает глаза и рот.
– А не далече уплыл-то! – слышались голоса. Бежали по суше.
– Оно сперва толкает, а потом выносит к берегу. Если дурья голова плыть наперекор не захочет.
– Княжич не захотел. Сразу сдался.
– Ничего. Студёно. Ноги свело.
Уверенные руки подняли Малко. Он заковылял – ногу и впрямь свело.
– Ящер там… Ящера видел, – запыхался он.
– Да-да, княжич, – кисло кивал дружинник, – его самого. Ага.
Потом княжича вырвало чёрным. Знахарь полизал рвоту и по цвету, да вкусу решил, что это весть от Ящера – кривду Малко затеял. Стало быть, гости правы. А главное – чисты, и можно их, наконец-то отпустить. Суд огнём и водой их оправдал.
О заплыве княжича прознало полгорода, и у берега толпился народ. Но начинались гулянья, разожгли костры, и первые молодцы уже бились кулаками, окруженные кольцом зрителей. Интерес к суду Малко с варягом пропадал. Да и сам князь Воеслав давно уже был в своём тереме. До дрожи злой на сына, велел отпустить киевлян с тремя своими витязями, а щенка не пускать за порог, пока не минует праздник.
Хельга прошла к Малко через толпу. Её больше не держали силой – после всего случившегося, ей некуда было сбегать. Да и поверил Свенельд, что не сама она сбежала в тот раз, а княжич выкрал.
Никогда бы Малко не подумал, что у взгляда тоже есть вес. Жернов на молотильне поднять было легче, чем глаза на Хельгу. Но она положила свои лёгкие руки ему на грудь, и нежно сказала:
– Всё равно ты дрался за меня. Этого ещё никто не делал.
Он снова уронил голову.
– Это делал твой варяг. И победил.
– Он дрался за товар, – Хельга поднырнула глазами, ловя его взгляд, – а ты – за нас с тобой.
– Теперь не будет нас с тобой, а просто ты, да я.
– Дадут боги, свидимся ещё. Ты – князем, а я – княгинею. А там чего только не случится.
Холодный поцелуй в лоб привёл его в чувства.
– Ты только помни про соловья, – как-то жалобно кинул он в след, и сам на себя разозлился за этот бабий тон.
Малко с того дня сделался иным. Так меняется человек, открывая в себе иную сторону – слабую и тёмную. И навеки зная – это есть часть его существа. Она есть во всех. Но не всякий готов с ней сжиться, не ломаясь.
***
Мясистая влага листвы тяжилась ожерельями, и струи солнца с дождём питали землю. Она густела жиром в шерстке кислицы и мха. Земля! Эта могучая, вечная и непостижимая в своём великообразии мать – тьма, что ширится и разбухает рвущейся к небу жизнью. И всегда держит эту жизнь за ноги, не пуская к отцу-небу.
Хельга срывала серьги берёз и клейкие черенки липы, нюхала, подносила к глазам, наблюдая мокрую пористую кожицу, бурый клей, горький на вкус. И бросала под копыта коня, а там уже тысячи семян топились во влажный мрак, чтобы затем прорасти на свет.
Деревья совокуплялись с землёй. Деревья блаженно улыбались в щёкоте птичьих гнёзд под куполом звонких песен.
Но Хельга была в глубокой думе. Вот и ей та же участь, что и деревьям, и птицам, и всей живи. Украсили её серебром, да малахитом. Чтобы ловила она сладкие взгляды мужа, как липа ловит нарядной кроной ласковые лучи солнца.
Мало ли девок умыкают из отчего дома? Мало ли сами отцы без их же ведома и спроса выдают их за чужого назнаемого детину? И поначалу плачут они, сымая сапоги с потных мужниных ног, и нет ни умиленья, ни любви, ни жара исподнего к нему. А чудеса случаются быстро – уже на вторую зиму или дитя носит, или головку на плечо ему кладёт, да завитком бороды играет. Тоска это, что ли? Да всё песни-заговоры, чтобы свет иначе начать видеть, да себя задурманить-обмануть, срастись с тем обманом, выдав его за настоящее. Пока, наконец, матёрой уже бабой, которых в Пскове клюквами зовут, решить, что вся прожитая и настоящая жизнь была твоей, и ты рождена была именно для этого мужа, для этих запахов из его сапог, и никакого обмана не было вовсе. Да ещё надо в быту зарыться, если после иной чарки медовухи, вдруг потянет почувствовать себя не клюквой, а малинкой, как в отчем дому… когда все лучики солнца были твои, ягодка.
Зарыться в быту? Что ж, думала Хельга, а у княгини быт-то, пожалуй, сносный. Она за свою короткую жизнь успела насмотреться на жён рыбаков, которые к двадцати пяти зимам казались старухами. Ладони в сетях трещин от рыбы и стирок, синяк на скуле, иной зуб вышиблен, и сколько не вешай луниц на очелье, выпавших волос не спрячешь. То ли дело при князе!
Даже в животе заурчало. «Княгиня Ольга». Непривычное и круглое, как сытая теремная квашня «о». Хельга знала по-славянски, но привычен ей был северный язык отца.
Гридни, что ехали спереди, начали перепалку. Стегали друг друга по плечам и бёдрам ветками, харахорились. Неужели перед ней? А ведь и на них весна дышит медовой тоской по ласкам. Хельга встряхнулась – какие страшные мысли про быт! Как же так – она ли это? Ужели смирилась с бабьей правдой, с лицемерием уютного острога, с рабством без цепей?
Ну ладно… а вдруг Игорь этот из гадкого лебедёнка ясным соколом вырос? И ведь прислал за ней после двух лет. Со всех земель славянских именно за ней! После того, как всего-то раз её и видел.
Вновь изумление окрасило щёки. Хельга крепко присвистнула гридням, и запустила в ближнего сорванной веткой. Тот обернулся зло, но тут же обмяк и робко улыбнулся ей. Это был красивый белокурый славянин, крепкие плечи его от смущения приподнялись. Он отвернулся – не его участь… И Хельга вздохнула – и не её.
А ночью был ливень, и чёрные кроны мазались в гуще тьмы. Шатёр Хельги залило водой, лучина и угли погасли.
Она плакала. Сначала тихо, злясь на себя за эту слабость. Потом ясно стало – никакая это не слабость, а нормальная человечья тоска. И она зарыдала в голос. Ей вспомнился отец, братья, и хижина.
Иногда в сильные дожди река Великая разливалась выше свай, по полу плавала ряска. Тогда отец затаскивал в дом лодки, и вся семья спала в них. И этот корабль в корабле вселял такую надёжность мира, что душа девочки сама превращалась в лодку. Бывало, Хельга лежала на дне, слушая шелест дождя, храп отца, и представляла себя – снаружи она была маленькой лодейкой-однодревкой, а внутри – большой плот. Как это – одна лодка внутри другой? Она не могла бы описать, но чувство корабля в корабле рассыпало мурашки по телу. А вокруг был ещё один корабль – дом. Славяне украшали дома конской головой, точно изба – это несущийся через житейское поле конь. А для варягов это было судно в реке времени. На нём плывёт бессмертный род.
Но иногда мысли были слишком уж смелыми – и Хельга представляла всю землю от горизонта до горизонта плывущим в звёздной пучине драккаром. И дальше уже захватывало дыхание – всё это небо, и звёзды, и земля – тоже исполинский корабль… А где он плывёт, и что увидишь за его бортом? Спину отца, когда тот идёт в утренних лучах готовить снасти.
Теперь был его образ, невольный всхлип, и неумение унять рыдания даже во сне.
– Э, какая славутная! – на Хельгу глядели ошалелые косматые рожи.
Её отряд выезжал на открытый берег – место слияния Ужа и Припяти. Отсюда на однодревках входили в Днепр Славутич, и до Киева был день.
– Держи, Ряшко, уд в портах! – кричал другой голос. – Таку девку только боярину портить дадут, а тебе – щучью мать.
Ряшко, ломоносый лысый толстяк со шматками похлёбки в бороде, сплюнул струёй. Выбитые зубы позволяли.
– А, никак, это наши едут, – сказал он, смекая. Стяг с жёлтым солнцем на древке, привязанном к телеге, и богатая одежда говорили о знатных путниках из Киева.
Он тут же бросил ковш обратно в кадку. Может, не заметят высокие господа… Хотя шаткая походка его и красные от многодневного пьянства глаза, выдавали всё.
Хельга с отвращением оглядела небольшой погост5. Котлы с гнилым мясом в золе потухших кострищ, мухи роятся над распластанной шкурой лося. Там и тут валяются, ни живы, ни мертвы, упившиеся брагой воины. На лице одного – несмытые брызги крови. Исподлобья глядят, сидя на заморских сундуках, оперлись о копья – явно разграбили арабский или ромейский корабль. Где-то из-за рощи слышен надрывный женский плач и смех мужиков.
– Воевода, никак? – хмуро заметил одноглазый полянин.
– Он и есть. Сундучок-то свой лучше спрячь пока, Угарко.
Одноглазый Угарко, старший на погосте, деланно улыбнулся углом рта.
– Здравы будьте, огнищане!
Свенельд наддал и въехал на коне в центр погоста. Вокруг него была пустота. Застава рассосалась по кустам и щелям.
– И это люди Игоря? – крикнул Свенельд. – В дерьме хмельном, да разбое!
Угарко всё так же скалился, Ряшко и ещё десяток бражников тупо глядели на всадника. Свенельд знал, что отчитывать их, а уж тем паче наказывать – себе дороже. Олег насадил порядок по берегам, учредил погосты, да Игорь уже третий год рукой на них машет. Конечно, его больше волнует юг, уличи и выход к морю, но забытый север без твёрдой руки плесневеет.
– Ты, – Свенельд указал на Ряшко, – поди скажи, чтоб перестали насильничать.
Свенельд мотнул головой в сторону рощи, где женский плач стал ещё истошней.
– А ты, незнамо как по отцу, готовь лодки. Отряд большой. Господину Великому Киеву заказ везём.
Угарко понял, что речь идёт о ряженой девке на коне, и смиренно поплёлся к пристани. На ходу осекая шутки про малолетнюю.
– Это вот, – Хельга услышала голос Асмунда, – хвалёное Олегово наследие.
Асмунд ехал сам, держался в седле. Всё ещё бледный после ранения, с обмотанной тряпками рукой, он сутулился и синегубо улыбался. Хельга побаивалась его. Вот Свенельд – другое дело. Ясный, хотя и гадкий – слишком заискивает перед теми, кто старше по чину, и слишком орёт на младших. Асмунд же – семя Локи. Ничто не выдавало его, кроме взгляда серых глаз. Но уже этот ледяной луч говорил обо всём.
– Знай, девица, что теперь это твой дом. Эти люди – твои дети. Ответ за них тебе держать.
Хельга попыталась возразить:
– Свенельд говорит…
– Свенельд присосался к Игорю, как пиявка, – прервал Асмунд, – и будет согласен со всем, что тот скажет. Пиявка не убивает, не перечит, она просто питается жизнью господина.
– Плохо дело, – сникла Хельга.
– Плохо. У тебя нет ничего, девица. Тебя сжуют и выплюнут в этих землях.
Асмунд оскалился от боли – слишком длинная речь.
– Но я ещё не видела Киева, – возразила Хельга шёпотом.
Она не ждала от Киева многого. Северная кровь её льнула к образу славного конунга – тот куда выше народа, которым он правит. Ингвар теперь был единственной её надеждой. Если все в Киеве такие же, как на этом погосте, если варяги – единственный луч света в славянском лесу, то конунг… или, как его на славянский манер, «князь» – вот солнце этого мира.
Но чернь – неужели именно зыбкая пропасть мутного люда полнит море, среди которого Ингвар – остров света? А ведь именно муж защитит её от этих похабных речей, от сосущей глаз пустоты. Тьма чёрных озёр колет дырами её дикий мир. Дикий для неё самой, невнятный, острый – она лишь недавно поняла, что такое лунный месяц и та боль в подбрюшье, которая возникает из-за нелада с луной. Луна прячется каждые двадцать восемь дней, а её боль тоже возникает каждые двадцать восемь… но пока не совпадала с новолунием. Отчего так? Отчего женщина идёт в разлад с небом? Отчего земля рождает так скоро и много, а женщина – так больно и мало? Коли славяне называют Мать-сыра-земля рода душу, так почему навь мёртвая, земля смердящая куда ближе в миг рождения, чем светозарная луна, чем душа живая? Вот и Малко говорит так.
А где ж этот Малко теперь? Что бросил ей на прощание – не отцову крепь, но муть ночи. Да ведь она сама тьму шлёт, как бабы говорят, да как оно действительно. Муж-то, обычай, светом дарит… Но вот как бы свет этот стяжать?
Такие были мысли Хельги на переправе, и впервые в жизни не она сама правила лодкой.
***
Солнце не достигло ещё зенита, когда на реку опустилась другая лодка. Не с погоста, а чуть в стороне. Те, кто плыл в ней, не хотели быть замечены. Их и не пустили бы через погост, не дали бы лодки, и, скорее всего, побили бы – утро было тяжёлым, а Угарко – злым. И потому двое юных варягов срубили дерево, связали добротный плот и пошли вдоль противоположного берега Ужа прямо в Припять, не привлекая внимания. Мало ли ходит рыбаков вдоль камышей?
Но рыбацких снастей они не имели. Зато за поясами были топоры, а в колчанах – стрелы. Одной такой они чуть не отправили Асмунда в Вальхаллу.
Теперь молодые охотники правили по широкой воде. Ладьи Свенельда шли под парусом и были уже далеко. Плот сильно отставал, но двое юнцов знали, у каких берегов кончится их путь. Прямо на Киев.
Одному из них едва было семнадцать, другому – и того меньше. Щёки в первом пуху, ясные глаза, лица измождены от долгого пути и ночей под открытым небом. Крапива, улитки и карась – в пищу.
– Ульвар, гляди! – окликнул младший старшего. – Драккар под парусом Киева… Солнце.
Действительно, на парусе большой ладьи было красное солнце. Однако это был не драккар, какие строили в Скандинавии, а славянское судно. Вскоре оно поравнялось с плотом.
Ульвар вскочил, замахал руками и крикнул по-славянски:
– Э-ге-ге! Как там господин Великий Киев?
С борта ответил густой бас:
– Тебя там не хватало, возгря!
– А я за тем и иду. Куда князь копьё повернул?
– На Пересечень к уличам. Взять себе хочет. Идите, служите. Нечего шляться воду мутить!
Ульвар помахал топором над головой.
– Ты, добрый человек, меня скоро при дворе увидишь в дружине главным!
С ладьи махнули рукой, и стройная корма скрылась за речным изгибом.
– Ты правда хочешь в воеводы? – спустя время спросил младший.
– А ты и впрямь решил, что мы сестру выручать идём? – усмехнулся Ульвар. – Ты, Скьёгг, всего на два года меня младше, а ума не отрастил.
Скьёгг Торольвсон нахмурился и сильнее налёг на весло.
– Видит Один, – продолжил Ульвар, – сестрица Хельга – наш выход из вонючей отцовой хижины. Выход в люди! Сам посуди. Княгиня своих братьев не обидит, а мы уж постараемся. Главное – показаться перед княжьим столом вовремя.
Младший брат возразил:
– Я не глупый, Ульвар. Сам видел, как я их воеводу срезал. Правда, думал, что сестра сядет в Искоростене. Но уж раз не сложилось…
– Тьфу! Да на что нам эти людоеды? Держи шире – до Киева идём. Ну. Кому ещё так боги улыбались, как нам? Да о нас висы слагать будут!
Скьёгг отвлеченно оглядел кроны сосен. Ему бы понравилось, если бы о нём, сыне лодочника, стали слагать боевые песни. Да найди такого мальчишку, кому бы не понравилось!
– Главное, – кивнул он, – как доберемся до Киева, добить этого мерзавца. Слыхал, как он про Хельгу молвил? Что безродная девка конунгу не чета, и зря всё это.
– Добьём, – согласился Ульвар. Пот со лба капал на душистое дерево, он грёб яростно. – Оттуда наш путь наверх и пойдёт.
Он видел тёплое марево над рекой. После ночного ливня всё дышало паркой негой. Ровный ветер то приносил из чащ облака тумана, то открывал просторы полей, а когда Днепр понёс плот на своих широких водах, от вольного духа закружилась голова.
– Эх, не ту реку назвали Великой, – сказал Ульвар, вспомнив родную переправу. Десять таких рек легло бы в русло Днепра, да всё не достало бы другого берега.
А в этот час ноги их сестры коснулись берегов киевских. Ладья Свенельда вошла в Почайну – широкий ручей у Днепра, где была пристань. Новые поршни6 на ногах уже перестали быть новыми – десятки дней стёрли их в конском стремени. Но сама Хельга была свежа, а робость перед неизвестным спрыснула щёки молочной кровью.
Высокая, хотя немного нескладная от возраста, она шла в окружении отряда, и за рвом у ворот частокола к ней встала новая свита. Теперь будущую княгиню окружало полсотни человек. Её посадили в паланкин, четыре крепких плеча понесли резной трон над головами киевлян.
Поначалу она боялась глядеть вниз. Всё мерещились рожи Угарки и Ряшко. Но взгляд её встретил любопытную радость. Поляне, собравшиеся на стогнах, снимали шапки и кланялись в пояс.
– Матушка наша едет! – услышала она.
– Бела матушка!
Народ ждал её. Князю давно пора было жениться. Свежа была память смутного времени бесправия и безнаследия. Когда первый попавшийся, первый дерзкий заправлял в народе и загонял его, как лихой пьяный всадник загоняет лошадь. Людям, что вели хозяйство на своей земле, нужен был такой же хозяин. А чем хозяин отличается от управленца и лихого всадника? Тем, что он думает о детях своих, коими населяет дом. И как у дома есть отец, так и у града должен быть. Но нет отца без матери.
Тиуны оповестили народ, что вот-вот привезут из-за дальних земель невесту князю, которую он первой женой сделает.
– Матушка!
– А как звать-величать? – шептались.
Кто-то из дружины бросил в толпу имя. И скоро по устам уже ходило:
– Ольга! Матушка Ольга едет!
Гул подхватили на городском подоле, на крышах теремов, на стенах детинца и башнях частокола. Радостный гул.
Наречие полян чуть отличалось от псковского. Но это слово было всюду одинаково – «матушка».
А неужели она счастлива? Улыбка пробила маску робости, Хельга, теперь уже Ольга, кивнула – да! Так и должно было случиться. От того, видать, хранили её боги в дремучей хижине отца, вдали от шумного Пскова. Так хранят сокровище от лишних глаз, так не зовут к семейному очагу чужаков. Так отец хранил её. И вдруг стало ещё светлее – как только она сядет на престол, попросит мужа навестить родные земли, увидеть отца и братьев…
Попросит мужа… Муж. Тот самый Игорь. Холод окатил нутро. Вот-вот встретит его, заглянет в очи. Уже судьба-то её прояснится, уже важнее всего теперь – этот взгляд.
В мыслях об Игоре она не заметила, как паланкин внесли через ворота детинца, и за дубом с идолами трёх богов-чуров, показались хоромы Игоря. Те самые, что некогда принадлежали Аскольду, а потом сгорели и были вновь возведены ещё ярче, и которые благословил своей славой великий Олег. И вот теперь уже ножки её касаются ступеней крыльца, а в сенях стоят белокурые жрецы, окропляют её голову водой, сыплют под ноги пшено. Из светлицы несётся сладкий девичий хор. Бубен стучит, или сердце? Цевницы гудят или кровь в висках?
Нет, не остановить течение реки, даже не замедлить. Не станет Днепр Славутич слушаться жалкой щепки, не станет жизнь твоею собственной, а воля человечья – человеку ли вручена? Ольгу нёс поток, как некогда Уж-река несла двух борцов за её честь…
И вот – выходит судьба. Золотые птицы на рубахе. Ясное чело…
Вялые глаза.
– Заходи.
Спина, размах рук, быстрые шаги – Игорь ушёл в залу. Ольге почему-то захотелось потрогать что-нибудь. Хотя бы свою руку. Она пошла следом за ним.
– Оставьте! – крикнул Игорь, и двери залы тут же затворили.
Она слышала ещё чьё-то дыхание за спиной, но Игорь кинул:
– Выйди, Свенельд. Потом.
Свенельд ушёл.
Остался привкус железа во рту – кусала губы. Она замерла, и всё замерло – только свечи еле заметно шатали тени. Никогда Ольга не видела свечей. Никогда не видела такого яркого нутра избы. Лучина в её хижине не могла выгнать мрака из углов. Здесь же всё дышало медовым светом. По стенам сияло оружие и кольчуги, а заморские ткани влажно струились.
– Так у тебя никого не было? – спросил Игорь.
Она глядела на этого юношу, и не знала, что с ней и кто она. Был только он – немного измождённый, немного нервный, ухоженный, вроде и красивый. Не её, хотя и хозяин. Это она сразу отмела, и заперла за сто дверей. Потом… не сейчас о таком думать. Сейчас – улыбнуться ему. Растопить немного тот лёд, что меж ними. Не так ведь невест встречают. Или не так встречаются с женихом?
Она опустилась на колени и склонила голову. Она – земля, он – солнце. Пусть заботится о ней, а она – готова принять его. Но он что-то недоволен. Что-то снова спрашивает. Как глупо.
– Неужели был кто?
Игорь спрыгнул с резного трона, отошёл к кадке с водой и умыл лицо. Ольга молчала, даже не слыша, что спрашивал жених. Наверное, глупо так улыбаться, но всё под спудом льда. Выйди, солнышко!
Он чесал лоб и не глядел на неё. Потом его сапоги скрипели по зале туда-сюда. А потом в дверь постучали, и он позвал. Кто-то вошёл, сказал про овёс, и что всё готово, про какие-то бочки. Игорь оживился, даже подошёл к ней, поднял пальцем за подбородок.
– Иду на уличей. Ты будешь ждать. Когда вернусь, поговорим. Если целая ты, свадьбу сыграем. А пока хоромы пользуй, как свои.
Или не так сказал? – она даже не помнила. Просто видела, как тени на сквозняке шатаются, и одна свечка погасла синим дымком. Просто потом не стало Игоря, и она свернулась на скамье в его зале. Одна, и никто не трогал её сна.
Она спала долго, вероятно, целый день.
Когда проснулась, в зале кто-то был. Слюдяные окна чернели – была ночь, а свечи давно погасли. Только лампада у дверей освещала силуэт. Через сонную пелену Ольга не видела лица.
– Мир тебе, невеста, – сказал женский голос.
Ольга подобралась на скамье.
– И тебе, кто бы ни была.
Незнакомка встала и прошлась по зале. Мерцала сталь – бляхи на поясе и кольца по плечам. Это были не украшения. Лёгкая кольчуга на варяжский манер, хотя речь была чистой славянской.
– Может, будем знакомы. Может, нет, – сказала женщина. – Что на сердце Игоря – не ведомо. Легче ветер предсказать. А коли чем ему не угодишь, тут не засидишься. Стало быть, и нам с тобой знаться не след.
Ольга дёрнула носиком. Крылья ноздрей её раздались и опали – так всегда у неё проступало негодование, за что братья звали её соколихой.
Но в темноте не было видно. Она только ответила:
– Не затем я сюда лунный месяц ехала, не затем от отца отняли, чтобы теперь здесь неугодной быть.
– Вот как! – усмехнулась незнакомка. – Мне уже сказали, что ты ягодка терпкая. Прощу тебе дерзость. Мне по нраву такие. Баба, что по правую руку от князя сидит, да на ложе ему заветное шепчет, правит наравне с ним. А то и больше власти имеет. Она знать себе цену должна.



