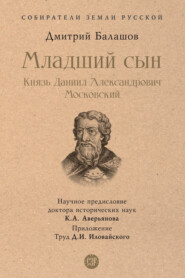
Полная версия:
Младший сын. Князь Даниил Александрович Московский
Возвращались ежедневные будничные заботы, и в нем нарастало облегчение. Он подолгу лежал вечерами под шубой, вспоминая, как Козел, тоже считавший своим долгом утешать Федю, говорил, что ничего – у него тоже батька на рати погиб, и в тех же местах! Федя лежал, думая ни о чем, все с тем же пустым звоном в голове. Мать с братом вполголоса в темноте переговаривались, что завтра надо уже начинать возить. И Федя, слушая этот как бы чужой разговор, совсем успокаивался. Непонятно жестокое прошло, проходило… Нынче он первый раз спокойно уснул и во сне наконец, впервые с тех пор, как пришла злая весть, увидел отца.
Он так же лежал под овчиной, и отец о чем-то шептался с братом, и он знал, что собираются на рыбалку и обещали взять и его с собой, и вот он лежит и ждет этого часа и что-то слышит, какие-то голоса, и вдруг, вздрогнув, просыпается от тишины и понимает, что они ушли, ушли, не разбудив, обманув его, маленького, и он вскакивает как есть, в рубашонке, и бежит стремглав, ударяется в дверь, падает и бежит по двору и по темной ночной деревне, с громким плачем, и добегает до обрыва, кусты хлещут его, он падает, катится, весь исцарапанный скатывается с горы и снова бежит, бежит, уже на мягких, трудно слушающихся ногах, бежит, тяжело дыша, и вот уже и вода, тускло светящаяся, и лодки, и кто-то темный отчаливает, и понятно, что это отец, и тогда он снова, в голос, начинает кричать и бежит, бежит, и вот видит, что отец придержал лодку багром, и он кидается в плотные отцовы руки, с рыданием, и отец, усмехаясь: «Прибрел-таки!» – усаживает его в лодку, сильно пихаясь, потом снимает с себя сермягу и укутывает его, уже задрожавшего от ночного озерного холода, и он согревается и уже молча, приходя в себя, смотрит, как гребет отец, как струится вода, как сперва брат, а потом батя бьет кресалом, разжигая огонь, и вот Грикша подымает дымный смолистый факел, а отец берет строгу, подымается и, прицелясь, с жестоко кривящимся лицом, бьет строгой в воду, и тотчас вода начинает бешено плескать, и извивающаяся страшная щука подымается, разбрызгивая воду, над лодкой, и отец стряхивает рыбину к Фединым ногам, так что он прячет пальцы босых ног под сермягу и весь поджимается, а рыбина продолжает плясать, горбатясь и разевая пасть, а потом затихает и лишь иногда сильно вздрагивает всем скользким пятнистым телом, ударяет хвостом и, зевая, показывает острые зубы, уже затрудненно, медленно разводя и сводя челюсти, а за ней в лодку падает вторая и тоже спервоначала начинает бешено скакать и свиваться кольцом, за второй – третья… Грикша переменяет факел. Отец иногда бьет мимо и тогда тихо ругается. Рыбины летят и летят, брызгая водой и кровью, а Федя начинает дремать и вот уже совсем спит, и отец выносит его на руках из лодки и, сильно встряхнув, ставит на ноги, и Федя сразу мерзнет, лишенный сермяги, и, с прыгающими губами, качаясь и больно спотыкаясь о камни, спешит за отцом и братом, которые идут, уже не обращая на него, хнычущего, внимания. Грикша несет строгу и весла, а отец – тяжелую торбу с рыбой, которая все еще шевелится у него за спиной, и вода стекает и капает в лад отцовым шагам…
И, пробудясь, поняв вдруг, что этого уже никогда не будет – ни темной дороги, ни озера, ни рыбалки, ни отцовых твердых рук, – Федя наконец заплакал, беззвучно трясясь, и слезы бежали у него из глаз по обе стороны лица. Грикша в темноте протянул руку, неумело обнял младшего брата и притянул к себе. И тоже молчал. А Федя продолжал плакать и вздрагивать и так, вздрагивая, и уснул, теперь уже до утра.
Первый воз наклали маленький: обминали дорогу. Довезли благополучно. Со вторым же намучились. Ни мать, ни Грикша не сумели затянуть веревку по-годному, и воз рассыпался по дороге. Пока перекладывали да ругались, стемнело. Только и успели в первый день. Федя намерзся, вымок и уже начал понимать, что значит остаться без отца, который то же самое сено на том же коне возил играючи и никогда не ронял, а Федя только сидел на возу да глядел по сторонам на опушенные снегом елки.
Снег был уже талый. Приходилось спешить. Днем липло к полозьям так, что лошади из сил выбивались. Когда принялись за дрова, Федю, накатав дорогу, стали посылать одного. Во второй или третий раз с ним приключилась обидная неудача. На выезде из лесу, близ Лаврушкиной пожни, выдернулась оглобля из гужей: все было сырое и гужи раскисли от воды, – воз съехал с наката в снег, и, как Федя ни бился, ничего у него не получалось. Он с трудом дотягивался до хомута, а вставить оглоблю и затянуть гуж у него решительно не хватало сил. Измучившись, он тогда совсем выпряг, срывая ногти, и полез было сесть верхом, но покатился, не сумев взобраться, а Серко, освобожденный, в одном хомуте, отбежал в сторону и, фыркнув, оглянулся на Федю. Федя пошел за ним и, уцепившись за седелку, снова попытался вскарабкаться на спину коня. Но уже не было сил, пальцы разжимались, и он снова упал. Ища, на что бы взобраться, он упустил повод, и Серко спокойным шагом направился по дороге к дому. Федя пошел за ним, потом побежал, но конь прибавлял ходу, на все призывы лишь мотал головой; останавливался, оглядываясь, слушая детскую ругань и плач, фыркал и отбегал снова, чуть только Федя чаял уже поймать волочившийся конец повода. А вдоволь измучив Федю напрасной погоней – от беготни у того даже шапка стала мокрая, – конь перешел на ровную рысь и совсем оставил его одного, измученного и мокрого, на дороге, с засевшим где-то назади возом. И ему пришлось со стыдом идти домой, полем и логом, а когда добрался, Серко, как ни в чем не бывало, уже стоял во дворе и подбирал раструшенные клочки сена. Жалеть Федю ни мать, ни брат не стали. Впрочем, и у него от усталости прошел уже гнев на коня. Всем приходилось трудно, коню, проделавшему долгий поход, тоже.
Возке, казалось, не будет конца. Сани проваливались, оглобли, как масленые, вылезали из гужей, и мать с братом перепрягали, завертывая гужи с сеном, чтоб крепче держалось. В Никитский монастырь Федя больше не ходил, в пору было добраться до постели.
Как-то раз (уже кончали возить, и лужи стояли на снегу озерами, а на въезде в деревню обнажилась черная земля) Федя, ведя воз, встретил княжескую охоту. Осочники проскакали мимо, гоня лисицу, и Федя не обратил бы внимания, кабы знакомый голос не окликнул его. Он придержал коня. Княжич Данилка, румяный, красивый, на легконогой серой лошадке, глядел на него и весело окликал. Поздоровались. Княжич спросил, почему Федя не ходит в училище. И Федя, дичась, ответил, что недосуг, за дровами, за сеном… Он хотел сказать, что батька убит, но княжич опередил его:
– Слыхал, батьку твово убили? – спросил он просто и участливо, и Федя молча кивнул, сразу как-то оттаяв и перестав сердиться на княжича. Данилка вздохнул, потупился, помолчал, а потом похвастал:
– А мне коня подарили, вишь! – И огладил гриву нарядного коня.
С поля окликали княжича. Он повернул голову, махнул кому-то рукой и сказал, вновь оборотясь к Феде:
– Ты приходи! Как вывозишь дрова – приходи!
И, уже тронув коня, спросил, то ли сам додумав, то ли подражая взрослым:
– С голоду не помираете там?
Федя потряс головой.
– Приходи! – прокричал княжич, пуская коня, и Федя тронул своего, шевельнув поводьями вправо-влево. Он уже, наученный горьким опытом, знал, как лучше стронуть с места груженый воз, чтобы конь не надрывался, отдирая прилипшие к снегу полозья, чтобы оглобли вдругорядь не выскочили из гужей.
Глава 8
Дмитрий Александрович воротился из-под Раковора с добычей и честью. Юрий, сын покойного дяди Андрея, бежал с поля боя. Он же выстоял и добыл победу. Не посрамили себя и новгородцы. Он еще и теперь, закрыв глаза, мог увидеть несущийся, блистающий доспехами, грозно ревущий клин вражеской «свиньи», опрокинувшей конный новгородский полк, цветные немецкие знамена и вал новгородских пешцев, что, смыкаясь на ходу, шли встречу вражеской конницы. Видел железные шлемы без лиц, слышал гибельный скрежет железа о железо и то, в падающем сердце, тревожное – и стыд обернуться! – скачут ли за мной?! Нет, переяславцы не выдали, и Дмитрий был горд победой. Он опять и опять вспоминал тот миг, когда стена врагов, о которую, казалось, сейчас сломаются копья и сомнутся мечи, распалась и он увидел спины бегущих, и уже рубил, рубил и рубил, и его обгоняли, рубя, а разгромленные датчане и пешие чудины бежали от них по всему полю, и рыцарская конница стремительно уходила за холмы.
После Новгорода, его громадных ратей, многолюдства градского, вольного кипения торга, шума вечевой площади, розовых и белокаменных соборов, возносящихся ввысь теремов, после лиц веселых и дерзких, разноязычной толпы заморских гостей, что, казалось, собрались изо всех ведомых земель, после новгородской свободы – платя дань, новгородцы меж тем не держали у себя баскака, да и сами татары не домогались сомнительной чести быть, не ровен час, зарезанными разбушевавшейся северной вольницей, – после всего этого родной терем, даже родной Переяславль казались убоги и тесны. Соломенные кровли и плосковатые мерянские лица наводили уныние.
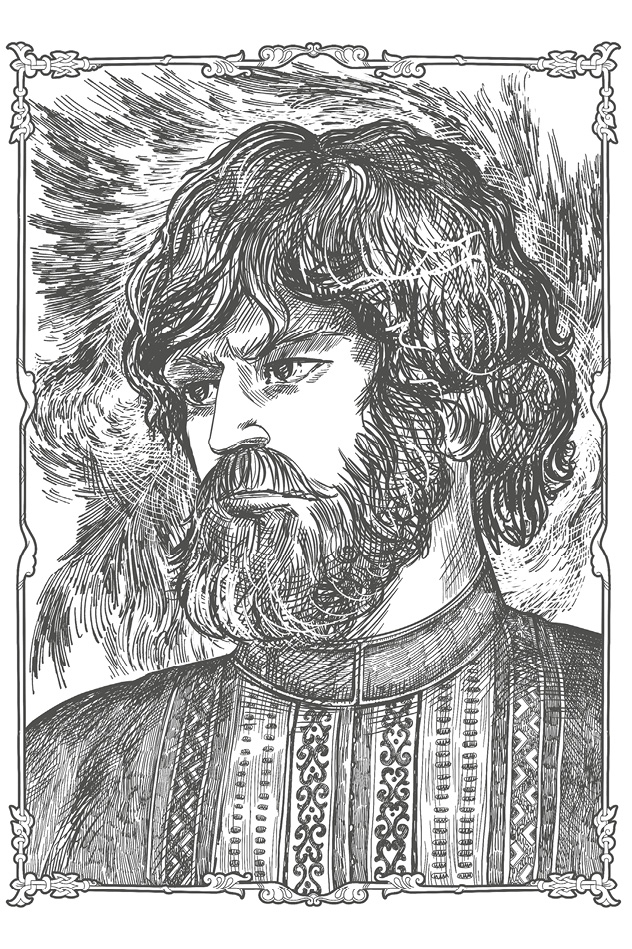
Он любил Новгород ревнивой и злой любовью. Он вырос в нем и был удален оттуда. Он злобился на новгородских бояр, на посадника, на граждан, изменивших ему, сыну Александра, и не мог забыть этих лиц, этой спокойной осанки вятших, этих уверенных речей и твердых глаз, этого богатства не напоказ, этого достоинства в каждом горожанине, встреченном на тесовой новгородской мостовой, деловитой грамотности посадских людей, строгой красоты иконного письма, гордой свободы горожанок…
У него все было в Новгороде. Была и любовь, когда он понял, что и князя можно отвергнуть здесь, на Новгородской земле (не про него ли сочинили потом обидную песню!), и… Как он понимал дядю Ярослава, что бросил Тверь и великое княженье в придачу к ногам новгородской боярышни! Как понимал, как завидовал… Сам он тогда, в семнадцать лет, при живом отце с матерью не решился, не мог решиться на такое. И она ушла, капризно надсмеявшись над ним (над ним, сыном Невского!). И как он любил тогда! Даже сейчас едва выдержал… Но выдержал, не стал узнавать. Прошло. Верно, муж, дети. Как и у него теперь.
Жена, сосватанная матерью, – маленькая, едва по плечо мужу, – сияя и робея, встретила его в терему. Вспыхивала, не зная, что сказать, как лучше приветить. Ласкал ее ночью, закрыв глаза. Мятежный Новгород, злой и лукавый, тянул к себе, и не было до конца того чувства, что – дом, что вернулся домой. Дом – желанный, уплывающий – был там, далеко, где чествовали нынче его, победителя, и вели окольные речи… Нет, против дяди Ярослава, как бы ни хотела Прусская улица и даже вся Славна, он не пойдет!
Литвин Довмонт, новый пришлый псковский воевода, понравился ему. Умен. Видно, что умен. И храбр так, что уму непостижимо. Верно, таким был батюшка в молодые годы… Как умел отец держать всех в своей горсти! Князей, бояр, Великий Новгород, да и они, дети, не посмели бы своевольничать при нем. Не пощадил же он Василия, и после не простил, и уже не допускал на очи до самой смерти. Да, ему, Дмитрию, все-таки далеко до отца. Родного брата, Андрея, что сидит на Городце, уже неможно заставить слушать себя. Женился на боярской дочери… Княжон не нашел? Да и на чьей? Все ему, Дмитрию, вперекор! А прежние вечные их ссоры с братом! Это Андреево давешнее: «Паче батюшки хощешь быть!» Да, хочу! Они оба с Андреем соревновались, кто из них больше будет походить на отца. Потому и была ярость в бою, и гордое мужество, и восторг, когда исчезает страх в расширяющемся сердце и тело становится легким и тяжелой – рука. Потому и были: твердая походка, неспешный поворот головы, прямой взгляд и молчание – рассчитанное, недетское, отцово. Потому и было упорство: задумав – не отступать, не свершив.
Но для того, чтобы сравняться с отцом, нужна была власть. Нужно было великое княжение, нужен был Новгород, своенравный, едва укрощенный отцовой дланью и теперь вновь вырывающийся из узды. И нужны были сейчас, пока сила в руках и жаркая кровь в жилах, пока все еще впереди и прожито только двадцать два года жизни, всего двадцать два!
Он лежал и не спал. Думал. Спать не хотелось. От заморского красного вина, что пили сегодня с боярами, все еще стучало в висках и слегка кружилась голова. Угощали ратников, угощались сами. Утром слушали благодарственный молебен в соборе, единственном каменном на весь Переяславль, строенном еще Юрием Долгоруким. Строить тогда умели. Владимирские соборы, пожалуй, значительнее новгородских, изобильнее белым камнем, богаче резьбой… Владимир и сейчас еще больше Новгорода… Нет, не больше! Пустеет Владимир. Был, говорят, больше – до татар.
Переяславль тогда, верно, тоже был больше, чем ныне. Отсюда, из Переяславля, уходят пути на Ростов, Юрьев, Владимир, Дмитров, Углич. И туда, через Москву, на Смоленск, на Чернигов и Киев… Не зря отец сидел здесь, в сердце страны. И все-таки стремился на север. Радовался, когда к нему шли служить новгородские бояре, давал им земли здесь, в Переяславском краю.
Земли приходилось давать за службу и нынче. Серебра было мало. Серебро требовала Орда. Оно струилось оттуда, из Новгорода, и плыло, уплывало в жадные, ненасытные руки ордынцев. Чтобы тучнели стада и росли дворцы, чтобы царства и языки трепетали при слове «татары», чтобы льстивые франки и сам папа римский слали грамоты и посольства в Сарай и Каракорум… От этого становилось душно. Душно становилось от сытого, широкого и плоского, с узкими умными глазами лица баскака, которому он, князь, должен был после молебна в соборе давать отчет о походе и подарки ему и Орде. Да еще: «Пачему мало даешь?» И не скажи: люди бегут! – «Бегут? Пачему бегут? Ты князь! Пашли бояр, верни! Куда бегут? Леса бегут? Все сбегут, тебе тагда плати, свой галава плати! Ханым люди не бегут! Орда не бегут! Палахой князь! Своя боярынь сыми, себя сыми, Орда давай!»
– Падаркам давай! – пробормотал он, скрипнув зубами. И то еще легче, чем при Беркае, когда любой посол татарский творил что хотел, а смердов толпами угоняли в полон… Как отец терпел! Дмитрий порою больше понимал покойного дядю Андрея. Да, надо драться, спасать древнюю честь и святыни! Спасать древлекиевскую славу, пока она не исшаяла на ветру! Спасать храмы и терема, иконы и книги.
Ничего им не объяснишь, ничем не вразумишь, и не примут они никогда христианской веры! У них своя вера, требующая крови врагов!
Погинуть? Пусть! Но в ратном строю! Но не задыхаться еженощно от бессилия, ненависти и унижения, не подлаживаться, не заставлять себя любить своего врага!
Да, они покорили полмира. В мужестве им не откажешь. Да, они честнее других, они не предают своих и не бросят в беде, не изменяют своим ханам, не завидуют, не лгут, не воруют – там, у себя, в Орде. В походах могут сутками не есть и не спать, не слезая с седла. Они не бегут с поля боя. Они не убивают трусливо послов и не прощают этого никому другому… Да, они такие!
И не так уж они жестоки в бою. В бою кто не жесток! И кто не зорит захваченных городов и не уводит полона? И… В конце концов! Ежели владимирские князья не сумели удержать власть, пусть бы сели новые, которые бы вновь подняли величие страны, воздвигли новые храмы и города, чтобы кипела торговля, строились деревни и села, тучнели и колосились нивы, множились стада, расцветали многоразличные ремесла… Но им же ничего не нужно! Драный тулуп, да чашка кумыса, да бесконечная песня, что тянет монгол в степи… Им не нужны ни наше ремесло, ни наша утварь, ни наша еда. Разве только наша кровь для войны! А что иное? Просо коням?! Смешно! Им не нужны наши книги, и книги эти сгорят. И не от татар сгорят! А от небрежения опустившихся, забывших свое прошлое русичей. Им не нужна красота: храмы, колокольные звоны, священные лики икон… И угаснут колокола, а храмы повергнутся в прах. Они, даже и не желая того, сами собой опустят страну до уровня степной Орды.
Так что же? Воззвать, ринуть рати, одолеть или пасть в бою?! Нельзя! Пока страна не в единых руках, ничего нельзя. Терпят все. Даже Новгород платит ордынскую дань. Да и откуда бы взять силы?
Город хиреет. Ремесленники в низких прокопченных полуземлянках толкуют о том, куда податься. В лесу за озером растут терема. Чего говорить о мужиках, когда княгини правящего дома ищут убежища в лесу за городом? Попробуй собери тут городских мужиков, как в Новгороде, да поведи в бой!
И с тамги, и с мыта, и с конского пятна, с ремесла и торга – все меньше и меньше доходов. Наместники качают головами. Земля скудеет серебром, пустеет казна.
На что опереться? Где путь? Юрий Владимирский мог кормить дружину у себя в терему! Нынче не прокормишь. Одно спасает – земля. Из отцовых бояр, что пришли за ним из Новгорода, те и остались, у кого поместья под Переяславлем: Гаврила Олексич да Миша Прушанин… Да и то Миша, поговаривают, хочет воротиться к себе в Великий Новгород. А иные отъехали к дяде Ярославу, в Тверь, кто в Костроме, у Василия… Гаврило Олексич, Гаврило Олексич, ты хоть меня не оставь!
Хорошо ли то, что бояре сидят на вотчинах, а не кормятся из рук князя? Те, прежние, были со своими князьями в беде и в бою. И переезжали за ними из города в город. А эти, поди-ка, уже не поедут!
Впрочем, и то сказать: сколько было спеси, пышности, а не удержали кормленые Владимировы бояре земли! Пали рати, погибли воеводы. Русь платит дань Орде. Давно ли степняки давали Руси дани-выходы!
И по-прежнему которы, зависть, споры, нестроения в князьях. Дядя Ярослав давно отступился от Чернигова с Киевом. Удержит ли еще Новгород? Сейчас поехал туда спорить. Их переспоришь…
Дмитрий наконец почувствовал усталость. Мысли стали мешаться. Он уронил голову на изголовье, обтянутое мисюрской камкой, и уснул. Жена, не размыкая глаз, осторожно натянула повыше шубное одеяло, закрывая плечи Дмитрию, и теснее прижалась к ненаглядному своему красавцу супругу.
Глава 9
Александра со снохою мылись в большой хлебной печи на поварне. Дмитрий поворчивал, а все равно мылись в печах. Александр, покойник, поставил новгородскую баню на дворе. Ходили туда, да и перестали. В печи жар словно был суше и разымчивей – до костей пробирало. Всякую болесть, что от воды, или ветра, или иной застуды, снимало как рукой.
Печь вытопили накануне сухими дубовыми дровами. Дали выстояться. На сноп золотистой ржаной соломы постелили чистые рушники. Александра, кряхтя, разоболоклась и полезла первая в пышущее сухим жаром устье. Затянулась, перевернулась на спину, отдыхая, – всю сразу проняло потом. Потом поднялась, села, поерзав, уминая солому. Позвала сноху: «Лезай!» Печь была просторная, хоть троима мойся. Пухленькая Митина жена скоро залезла, устроилась рядом. Александра черпнула ковшом, кинула пар. Сноха ойкнула. Сразу стало нечем дышать и словно огнем охватило, и так же быстро прошло. Горячие кирпичи мигом всосали пар. Александра нынче не заволакивалась заслонкой, сердце стало сдавать. Посидели. Из устья шел легкий воздух, и дышалось легко, тело же было все в банной истоме. Александра снова плеснула на кирпичи. Снова все мгновенно заволокло белым раскаленным паром. Снаружи на ухвате подали горшок с холодянкой. Сноха разбирала волосы. Александра, потыкавшись в ее скользкие ноги, нашарила кусок булгарского привозного мыла. В печной темноте, в бабьей, нестыдной близости распаренных тел решилась спросить о тайном: не понесла ли? («Ванятка плох, нать бы еще сына-то!») Сноха потупилась. Стесняется али уж и гребует, не хочет говорить… Александра вздохнула. У нее самой пятеро было сыновей! А нынче все врозь. И не соберешь. Василий – тот пьет без ума. Ее винит. А она что? Отец решил, бояре присудили… И Митя с Андрейкой все не ладят. Она уже стала забывать, как умела прикрикнуть на них на всех когда-то, как шлепала – скора была на руку – и Андрея, и Митю, как властно гоняла холопов и бояр. Под рукой у мужа и сама была госпожа… А теперь хотелось покоя. И боязно делалось, когда видела в детях черты покойного мужа. Только младший, Данилушка, смиренный. Обещали Москву, и ладно. Дитя еще! А дадут ли, нет – невесть! Деверь-то, поди, и не даст, кто другой бы!
Снова вздохнув, Александра заговорила о смерти юрьевского князя Митрия Святославича. Старого Святослава обидели: Владимирский стол и Суздаль отобрали у него Александр с Андреем. А Митрий Святославич того в сердце не держал, покойному друг был первый, и на похоронах Александра старался паче прочих.
Юрьевский князь помер нынче, канун Пасхи. Два года уже, как болел и потерял язык. А тут, при епископе Игнатии, посхимившись и получив причастие, обрел язык и выговорил: «Исполни Бог труд твой в Царствии Небесном, Владыко! Се покрутил мя еси на долгий путь вечна воина истинному царю, Христу, Богу нашему!»
Александра умиленно, с удовольствием повторила слова покойного (смерть Дмитрия Святославича была еще новостью для всех, Александра узнала о ней первая, и то, что у постели умирающего сидели Мария Ростовская с младшим сыном Глебом и сам ростовский епископ Игнатий причащал юрьевского князя).
– Святой он, матушка! – убежденно сказала сноха. – Мити-то, жаль, при нем не случилось! – добавила она в простоте.
Александра открыла было рот поддакнуть, да и смолкла растерянно: «Чего ж это я? И верно: почто Мити-то не случилось? Ведь улестят, обадят ростовчане нового-то юрьевского князя!»
Приметив движение снохи, Александра разрешила:
– Лезай! Я еще посижу.
Беспременно надо Мите сказать! Сын давно уже не советовался с матерью о своих делах. Она еще раз вздохнула. Уже не сиделось. Пора было и самой вылезать.
С трудом – две холопки и боярыня со сеней бережно поддерживали ее за рыхлые бока – Александра вылезла из печи. Опустилась на лавку. Холопки повязали голову княгини убрусом, без конца вытирали спину и грудь. Ее большое студенистое тело после бани стало жемчужно-розовым, тяжелое раздутое лицо – пунцовым. Сноха была уже в рубахе, сенная боярыня тоже, и заплетали просохшие волосы. Александра накинула сорочку, потребовала малинового квасу. Сорочка скоро промокла, принесли другую. Снова говорили про юрьевского князя, вздыхали, жалели. Пили квас и легкий, кисловато-хмельной мед.
Одеваясь, Александра не сняла с головы убруса, только сверху повязалась платом. Так, с пунцовым, обрамленным белым венчиком лицом, и вышла на улицу. После темной печи и полутемной поваренной избы весеннее солнце ослепило. Птичий щебет, близкий шум рыночной площади, голубизна, отраженная в лужах. Голубой, пронзительно-свежий воздух разом наполнил грудь. Она шла по двору и радовалась. Дети были взрослые. Уладят уж как-нибудь! И с юрьевским князем, и промеж собой. Андрейка с Митей помирятся, Данилка получит Москву. Весна-то, Господи!
Радостно звонили колокола.
Глава 10
Данилка, вымытый и выруганный матерью, тем часом сидел в светелке и от нечего делать возился с двухлетним племянником Ваняткой, которого тоже только что вымыли и одели в чистую рубашонку. Ругала его мать за побег. Все утро Данилка, брошенный взрослыми, бродил по теремам, побывал в челядне, где девки, сидя у станов, ткали, с однообразным щелканьем нажимая на подножки и подбивая очередной ряд, и, перекидывая челноки вправо-влево, пели негромко хором. Он походил между станов, посмотрел на натянутые полотна, выслушал умильные бабьи похвалы себе, соскучился и пошел в шорную. Здесь стоял густой кожаный дух. Мастера-холопы, с подобранными под кожаный ремешок волосами, в фартуках, кроили, резали и шили, тут же наколачивали медные бляхи на сбрую, тут же что-то жгли; стоял гул и чад, и у Данилки скоро заболела голова. Он спустился во двор, обогнул терем и, как был, без шапки, вышел на Красную площадь перед собором.
Александр Невский отодвинул торг подальше от теремов. Не замеченный стражей, Данилка проскользнул мимо молодечной и вышел на улицу, всю в грязи и тающем снеге, по которой, чавкая, шли и ехали с торга и на торг. Одет он был просто, по-буднему, и никто не заметил княжича, когда он, замешавшись в толпу, принялся обходить лавки, вдыхая запахи торга, зыркая глазами по сторонам, – столько всего тут было выставлено и нагорожено! Данилка начал приценяться к товарам, выспрашивать купцов, которые снисходительно отвечали мальчику, а то и просто отмахивались от него; прищуриваясь как взрослый, трогал поставы сукон, отколупывал и жевал воск…
На торгу его и нашел Гаврила Олексич, старый боярин отцов, и, посадив на коня, привез назад. Мать уже хватилась и, ругая девок и няньку на чем свет стоит, искала пропавшего своего младшенького по всему дому.
Данилка дулся. Не такой он маленький, чтобы его на торг не пускать! Впрочем, племянник, который бормотал первые слова и смешно раскачивал головой, заставил Данилку забыть о дневной обиде.
– Чево у тя голова машется? Ну, чево? Молви! Ну! – говорил он, лежа перед племянником на персидском ковре и то протягивая, то убирая от него деревянного расписного коня, когда двери отворились и в светелку, пригнувшись у притолоки, вошел Дмитрий.

