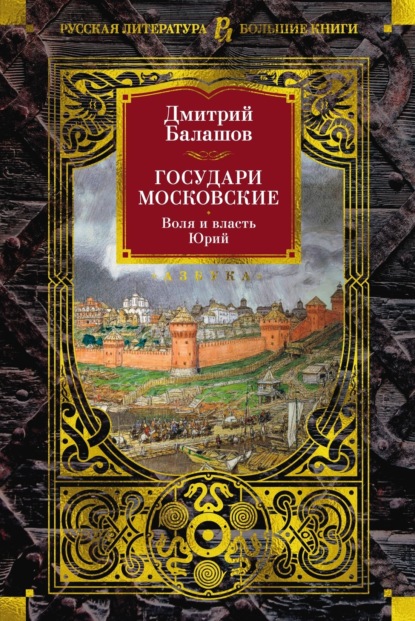
Полная версия:
Государи Московские. Воля и власть. Юрий
Что есть человек, лишенный благодати Духа Святого? Кем был Адам до того, как Бог вдохнул в него дыхание жизни? Был, как и всякий скот, как и всякая тварь, лишенная благодати. Все так! Но и стяжавшим Дух Святой и всем прочим, кто по воле Господней возможет сие, а возможет любой и каждый, подъявший решимость в сердце своем и отвергшийся суеты, но и тот ответит ли, какова тайна творения Божьего? Почто созданы таковы, каковы мы есть, одержимы страстьми и печалями? Почто надобен искус сей, искус сего мира, и почто без того не достичь мира горнего? Тайна сия велика есть! И праведен ли был он, Михаил, и заслужил ли жизнью своею место в рядах праведных душ в мире том? Тяжек крест, но и праведен Твой приговор, ибо, ведая волю Господню, конечную цель бытия, и сами стали бы яко Боги, но и не возмогли бы снести ноши той, а воздвигнув новую башню Вавилонскую, потщась достигнуть небес, сравняться с Подателем Сил, надорвались бы и погибли, яко рекомые обры, без племени и остатка.
Михайло оглядел покой. Еще раз глянул на грамоту, которую сворачивали сейчас, обвязывая снурком и запечатывая восковою печатью. Кивком головы отпустил собратию свою. И опять наступила тишина. Снова стало слышно, как потрескивают, незаметно оплывая, свечи в высоких кованых стоянцах.
Незримое веяние горних крыл коснулось его лица. Михайло заснул и во сне продолжал думать и вспоминать. И колыхалось виноцветное Греческое море, и Сергий, такой, как всегда, приходил с торбой своею, в холщовом подряснике, и садился у ложа, и говорил, воспрещая:
– Не спрашивай! Надо работати Господу!
– По всяк час? – вопрошал Михайло.
– По всяк час! – подтверждал Сергий. – Ибо жизнь сия лишь временный приют на пути к вечному и от того, что и как сотворим мы в жизни сей, зависит грядущая нам вечность.
Вечность! Повторял Михайло, вдумываясь и усиливаясь понять, и опять колыхалось виноцветное море, дымно плыла по воздуху цареградская София во всем неземном великолепии своем, и старцы прежних великих веков проходили торжественною вереницей в сияющем золотом сумраке, изредка взглядывая на спящего Михайлу и осеняя его летучим движением десницы. Сотворил ли он завещанное ему Господом в жизни сей? Исполнил ли завет Высших Сил? Допущен ли будет к порогу Его, к престолу Славы, стать в ряды праведников, славящих Небесного Отца?
…Он так и умер во сне, не решась ответить на заданное самому себе вопрошание. Умер шестого мая 1402 года по Рождестве Христовом (и – слава Богу! – не доживши до нового Витовтова нашествия!). И, согласно воле своей, препровожден в гробовой колоде в далекую Сергиеву пустынь, куда везли его много дней и куда, несмотря на то, тело смоленского епископа прибыло невережено и нетленно, верно, по молитвам святого Сергия, пожелавшего приветить давнего совопросника своего.
Глава 17
Любутск, захваченный в свое время Литвой, был костью в горле Рязанского княжества, находясь где-то под Калугою недалеко от Рязани, на пути к Брянску. Недалеко от всего, что надобно было защищать и на что неодолимо, еще со времен Ольгердовых, наползала Литва, съедая земли Северских княжеств.
Татары являлись под Рязанью и Любутском единовременно. Олег Рязанский дважды ходил под Любутск с великой ратью и однажды едва не взял города, но ему помешал Василий Дмитриевич, уступавший и уступивший тестю. Теперь, всадив Юрия на смоленский стол, старый рязанский князь замыслил вернуть наконец Любутск и отбить Брянск, но ему помешало время. Олег был стар, и болезнь свалила его нежданно, подобно удару клинка. Рать, долженствующую изъять этот ядовитый шип из тела Рязанской земли и покорить Брянск, впервые возглавил не сам он, а его сын Родослав Ольгович. Во многом и многим похожий на своего отца, но, увы, не имевший полководческих его талантов.
Не были вовремя разосланы слухачи, надеялись, что Витовт, разбитый на Ворскле и подписавший унию с Ягайлой, не сумеет столь быстро восстановить свою власть и заставить других князей слушаться и подчиняться его приказам. Не уведано о подходе литовских ратей, да что литовских! Большая часть рати Семена-Лугвеня Ольгердовича и приданных ему князя Александра Патрикеевича Стародубского и князя Бойноса Иваныча состояла из русичей, пусть подчиненных Литве, но – русичей! Свои дрались со своими!
Бой произошел под самым Любутском, едва ли не на том самом поле бранном, на котором дрались рязане во время прежних, с князем Олегом, походов воинских и поначалу… Вот именно – поначалу! Кто его оступил, с какими силами – Родослав узнал токмо во время сражения, когда ничего уже сделать было нельзя.
Когда из-за леса вывернулась конная литовская лава, восстал вопль и заколыхались в воздухе тонкие лезвия сабель над головами скачущих всадников, еще можно было что-то исправить, во всяком случае, не бросать встречь свой лучший полк, который уже было не повернуть. А от дальних перелесков отделилась вдруг, высыпая на глядень, и, густея, пошла наметом с далеким «А-а-а-а-а-а!» иная рать, в тылах загомонили вражеские воины, и уже не стало понять, кто скачет, куда и откуда. Крик огустевал, и вот уже со скрежетом, ржанием, копейным стоном сошлись, покатились, топоча высокие некошеные травы, сплетаясь и падая. Воевода Иван Мирославич кинул ему: «Обходят! Уходи, князь!» – а сам повел в напуск запасную дружину, и врезались, и замелькали кривые сабли, и крик застыл, пошла рубка, молча и страшно, когда – поводья в зубы, клинок из ножон, подстреленные кони взлетают на дыбы, и лихие рязане все еще в чаяньи победы рвутся вперед, во тьму сабель, в копейный блеск, и когда неясно еще, как повернет бой, но уже яснеет, что началась свалка, что тут решают множества и мгновенья, что запасных дружин уже нет, что надобно уходить, а не уйти, и как показаться потом умирающему отцу, бросив рать, уйдя от разгрома? Как сказать о кинутых ветеранах, что сейчас рубятся, оступив его, и дорого продают свои жизни, падая один за другим… И когда мгновеньями вдруг кажется, что одолеваем, одолели уже! И сам Родослав кидается в сечу, в безоглядный страшный просверк смерти, и рубит сам, и рубятся кмети, а там, со сторон, «А-а-а-а!» – все нарастает и нарастает вражеский зык, и ничего уже содеять нельзя. Битва переломилась уже где-то о полдень: попадали стяги, погиб строй, и отдельные ратные уходили в леса, горяча коней, а другие продолжали рубиться, но уже рубиться каждый сам за себя, вертясь волчком на вспененном коне, нанося удары немеющей рукой и внимая все нарастающему, все более дружному зыку литовских ратей. Дорого далась эта победа и Литве. Отступавших рязан не преследовали, да добычи, полона хватало и без того. Любутск был опять спасен, так и оставшись костью в горле, ядовитым литовским шипом в русской земле.
Родослав рубился до последнего. Переменил двух убитых под ним коней, а когда к исходу дня попытался уйти, понял, что поздно – враги обсели его со всех сторон, что хорты медведя, и, потеряв стремянного, опутанный арканом, князь наконец опустил и выронил меч. Его взяли едва живого, трижды раненного и, торжествуя, повели за собою в Литву. «Отец, отец!» – хрипел Родослав покаянно, меж тем как черные круги плавали у него в глазах и кровь заливала лицо и пробитую бронь…
Три года провел неудачливый сын Олега, несбывшаяся надежда отца, в литовском плену, в цепях, и наконец был выпущен Витовтом не то за две, не то три тысячи рублев окупа.
Олег Иваныч узнал о разгроме рати и пленении сына на ложе смерти. Он лежал бессильный у себя, в переяславском тереме. Столицу Олега, Переяслав-Рязанский, чаще и чаще именовали попросту Рязанью. Городище старой Рязани, разрушенной монголами, оплывшее, поросшее лесом, уже и позабывалось порой.
Князь смотрел в слюдяное распахнутое окошко на Оку, на заречную сторону, где прятался Солотчинский монастырь и где князь завещал себя схоронить, и думал, и знал, что он уже ничего не успеет свершить, не успеет даже выкупить Родослава из неволи, не сумеет отмстить Литве, и что княжество, собранное его властною дланью, рассыплет вновь в прах. Пронский князь опять затеет ненужную прю, подобно тому как тверские володетели спорят и спорят со своим удельным Кашиным, кто бы там ни сидел. И что, наверное, прав покойный Сергий, и судьбы Святой Руси важнее судеб каждого отдельного княжества… Он уже причастился и соборовался и теперь токмо лежал, затрудненно вдыхая запах реки, леса и трав, лежал и думал: ни попусту ли прошла его жизнь? Не всуе ли трудился он, упорно бороня рубежи своей земли? Или от совокупных стараний всех нас, даже и во взаимных которах и бранях сущих, все-таки зависит и строится большая Великая Русь? Ему вдруг стало обидно до боли – восстать бы! Сесть на коня! Нежданным ударом разгромить литовские дружины, взять наконец и укрепить Любутск, поставить дружественного князя на брянский стол… А потом отбивать Мстиславль, а потом… А тем часом Витовт опять подступит под Смоленск или под самую Рязань с ратью, которую он сумел добыть откуда-то, собрать и вооружить за столь малый срок!
Нет, прав ты, Господи! Ничего содеять нельзя и надобно верить, что хоть они, московиты, задержат латинов и спасут православную церковь, спасут душу страны… Слишком тяжело умирать, не веря в дальнейшее возрождение! Постельник тихо вступил в покой. Олег показал глазами, что не спит и разрешает входить. Начали собираться бояре. Когда уже все было кончено, прочтена и подписана душевая грамота, умирающий князь прошептал:
– Когда похороните, кольчатую рубаху мою, в ней же ходил в походы и ратился, сохраните в Солотчинском монастыре. Завещаю, чтоб помнили!
Они проходили перед ним, прощаясь, и кланялись земно: воеводы, бояре, боевые соратники князя, иные целовали ему руку, иные, кто имел право на то, припадали к устам. Княжич Федор был растерян и жалок.
– Поезжай… Ярлык… Тебе. К Шадибеку езжай! Родослава скоро не выпустят, и – не оставь брата!
Он шевельнул рукой, отпуская заплаканного сына. Простился, подумал о тех, кого не было. Жену, что осталась у постели супруга до пострижения в иноки, приветил легким движением очей. Прошептал: «Будут постригать, ты уйди!» Уже ничего не оставалось земного, что он мог и должен был исполнить, и токмо это – из князя Олега стать старцем Иаковом и умереть.
Помилуй, Господи, ратоборца, отдававшего душу и труд за други своя!
Тотчас после похорон отца Федор ускакал в Орду, к Шадибеку, за ярлыком на свое княжество. Торопиться следовало, ибо пронский князь поспешил в Орду тоже.
Глава 18
В горнице крепко пахнет мужицкими плохо вымытыми и вовсе не мытыми телами, луком и редькою. Стоит гомон. Вскипают ругань и смех. На широком дворе тоже полно ратного люду: вислоусые бородатые деды и зеленая холостежь, у кого только-только еще русым пухом овеяло подбородок и щеки.
Одинаково толпятся у дверей, прошают – чего там решила старшина? И все с оружием: пусть не в бронях, не в шишаках, но сабли у всех; у кого кистени, топорики, помимо ножей «засапожников», без которых охотнику или рыбаку, а уж того более – ратному мужу, стыдно и выходить из дому. Впрочем, «засапожники» – это так, к слову молвится. Нож у мужика на поясе, в кожаных, деревянных или плетенных из лыка ножнах, так же как огниво, кремень и трут. А сабля ради того дела, что тут не простой сход, не в набег очередной сбирается ватага вятских удальцов, а создается, строится, возникает вольное русское войско. И там, в горнице, где собралась головка: атаманы местных городков, рядков и починков, охочие воеводы ратных дружин, старики, заслужившие почет в былых боях и походах, решают и спорят о законах этого вольного войска, судят, прикидывают, поворачивают так и эдак, прежде чем записать в харатью, по которой собранная рада установит единый закон и поряд для всего содружества на будущие времена.
– Атаманы-молодцы! Люди вольные! Казаки!
Слово «казак» уже укрепилось, расширило – разошлось по северу, где «казак» мог быть и воином, и наемным работником, кочующим без семьи из дома в дом, иного приветит разбитная вдовушка, которой казак надобен более для интересного дела, чем для работы (про таких и пословица: «Почему казак гладок? Поел да и на бок!»). Но уже и крепчало, и яснело, что казак – это вольный человек, воин прежде всего.
Анфал, большой, тяжелый, высит над столом. Медная братина с квасом перед ним только что опружена и вновь налита уже в который раз.
– Тихо! Тише, други! Анфал говорит!
– Дак положили, значит, войскового атамана выбирать на кругу! На год! Довольно того?
– Довольно, довольно! Коли люб, и переизбрать мочно, а токмо, чтобы власть сдавал и отчет держал кажен год!
– Теперь есаула надобно! Писаря!
– Тише, други!
– И посадника в Новом Городи нынце на год избирают.
– Дак не на кругу!
– И снять не моги!
– И кто избират? Одни вятшие, поцитай! Бояре!
– А и ты, боярин, Анфал! И брат твой, двинский воевода, боярин был! – гвоздил въедливый Потанька Гузно из Орлова, посверкивая единственным глазом на посеченной саблею роже.
– У меня холопы?! Може, терем родовой?! – взъярился Анфал. – Брата в Волхово утопили, вот и все наше боярство! А добра того давно нет! Сплыло!
– Ладно, утихни, Анфал Никитич, – прогудел широкий, вольно раскинувшийся на лавке Селиван Ноздря, атаман из Котельнича, прибывший на сбор со своею дружиною и городовой старшиной. – Так уж поперечное слово сказано, задора ради, не бери в слух!
– В душу не бери! – поддержали враз несколько голосов.
– Говори, Анфал!
Анфал перемолчал, обвел буйную ватагу суровым взором:
– Я вота цьто скажу! Цьтоб не было боярства того! Надобен закон: кажному – трудитьце! Кажный ватажник ремесло цьтоб знал, какое ни есь! И друг у друга не батрачить! Мы – вольный народ! Станем один другого в работники брать, вот те и боярство у нас, вот те и вятшие и меньшие, вот те и домовитые и голытьба.
– А вот скажи, Анфал! – перебил двинского воеводу Вышата Гусь, так же как и Жирослав Лютич, житий, потерявший землю в судном споре, один из новгородских беглецов, обиженных Великим Городом. – Мое дело – война! А какого иного ремесла за собою не ведаю, и иные многие тако же. Им-то как?
– Как не ведашь? – живо возразил Анфал. – Шкуры мочишь, сам видал! Стало – выделывать!
– Дак иначе гостям торговым и не продать!
– Второе – рыбу ловишь? И знатный, сказывают, рыбак! – не отставал Анфал.
– Дак новогородчи и вси рыбаки! – возразил Вышата.
– Дак и солишь, и коптишь тово, поди-ко не иного кого о том просишь? А сбрую даве ладил?
– Дак тут, на Вятке, инако и не выстать! Холопа-мастера себе тут не найдешь!
– То-то вот! – припечатал Анфал. – О том и толк ведем, чтоб братью свою не работити!
Гул потек по палате, хохотнули: «Да, Гусь, тут тебе не Великий, привыкай!» Только утих Вышата, Жирослав Лютич поднял голос, заговорил въедливо и заставил-таки слушать себя, о торговых делах заговорил. Тут-то и возник спор: продавать ли товар гостям торговым, самим ли держать лавки, общинных ли купцей иметь, как в Новгороде Великом, что с кончанским товаром ездят, быват, и за море? Тут и те, во дворе, загомонили, полезли внутрь. Всех задело, а паче того, когда вырешили, что торговать – не казацкое дело и что купец в воинском кругу ни говорить, ни стоять не должен, как и тот, кто варит на продажу хмельное питие. Тут уж многие задумались. Онфим Лыко долго и зло возражал, однако сдался и он. Порешили: пиво и мед варить токмо для себя и на братчины, а не на продажу и тех, кто торгует пьяным питием, в круг не пускать.
Зато почти безо споров прошло, когда постановили: изменников, а такожде за обман, за воровство друг у друга убивать без суда. В воровстве хошь и грешны были многие, но понимали – без строгости этой войска не создашь. Тимоха Лось, высокий, плечистый, на сухих жиловатых ногах, на диво сильный мужик, ватажный атаман, и Никулицына рядка даже, и «Ясу» Чингисханову вспомнил.
Согласно прошло и то, чтобы уважать стариков, слушаться старших, чтобы за провинности наказывать на кругу, и уж сколько там присудит круг плетей за которую вину – двадцать там, тридцать, а то и пятьдесят, – безо спору. И как поучат, чтобы поклонил всема, и высказал: «Спаси, Христос, поучили!»
– С коего возрастия допускать на круг? – вопросил Гриша Лях, хлыновский атаман, прозванный Ляхом пото, что приволокся на Вятку откуда-тось с литовских земель с рубленой раной через лицо и со спиною, исполосованной плетями навечно, рубец на рубце. В бане, кто парился с им, только головами качали: спина вся была в красных полосах и отверделых язвинах. Приволокся и о своем прежнем житьи-бытьи многого не сказывал. Но в бою был зверь, да и умен, и скоро дорос до ватажного атамана, сразу принятого соратниками.
Лях стоял, трудно оборачивая слегка задетую в прежних расправах шею, и, молча помавая головой, выслушивал крики, несущиеся аж со двора:
– С шестнадцати! С пятнадцати! Как в походы начнут ходить, дак по тому!
Все же, поспорив вдосталь, остановили на восемнадцати годах: на кругу – не в походе, надо головой думать, а тут уж малолеткам места нет. И о том тут же решили, что есаулом ставить с тридцати лет, походным атаманом – с сорока, а войсковым атаманом – не ниже пятидесяти лет.
– Тебе, Анфал, еще и нет пятидесяти! – тут же подзудил Иван Паленый, веселый мужик со страшным лицом, сплошь в каких-то рубцах, бородавках и шрамах. Как-то в походе марийцы оступили его, засевшего в избе, и порешили сжечь. Иван отбивался полдня, все дожидал своих, а и тут выдержал норов: когда уже пылали стены и рушились переводы кровли, лежал на полу, прикрывши спину дымящимся мокрым, нарочито обоссанным армяком, а после зверем кинулся по горящим бревнам наверх, в прогал, и в вое, треске, водопадах рассыпающегося огня (весело пылала сухая дрань кровли) покатил по траве, объятый огнем, сжимая саблю зубами, и вырвался-таки, унырнул в овраг, бухнулся в воду, по счастью нашедшуюся тут, загасив тлеющую во многих местах сряду свою. А потом бежал, полз, превозмогая боль от ожогов, и, когда добрался до своих знакомых ватажников, аж шатнуло: не признали враз. А кожаные сапоги потом срезали у него с ног вместе со шмотьями кожи.
Выжил! Барсучьим салом мазали мужика, и глаза сохранил, только ресницы и брови сгорели, и борода с того клоками стала расти на изуродованном лице. Но держался Паленый кречетом, шутковал даже, когда прошали, как он с женкой своей, не страшит ли его?
– А я ее раком ставлю! – отвечал. – Да велю: вспоминай, какой по первости был!
– В енту самую пору?
– В енту самую!
– Ну и – как?
– Срабатыват!
Теперь Паленый прошал, уставя на Анфала бурые ямины глаз, в которых отчаянно сверкали сохраненные белки, и Анфал, полуотведя взор, отвечал без обиды:
– Я в верховные атаманы и не рвусь. Достаточно, когда походным меня изберут.
Но тут круг загомонил разом:
– Без тебя, Анфал, дело не пойдет! – закричали сразу во много голосов.
Анфал поднял длань, утишая:
– Мы здесь постановляем закон! На все предбудущие времена! Чтобы уж какой сопленосый не стал хвататься за вышнюю власть! А я готов послужить товариществу, ето уж как порешите, молодцы, и как порешат атаманы, старейшина наша!
И об этом долго спорили. И уж когда вырешили с руковожением, вступило главное:
– Кажному со своей добычи, с заработка ли треть вносить в войсковую казну! – изрек Анфал. Тут по-первости едва до драки не дошло, с ума посходили все. Онфим Лыко кричал на всю избу:
– Ето какая же треть? У одного треть – в сорок гривен, у другого – пара белок драных, и все в одно валить? Пущай кажный, скажем, ну… По скольку ни даст, положим… – Он замедлил, высчитывая, и тут загомонили все.
– Ето как же? Кто победней, тот и вовсе все отдаст, а богатеям не в труд заплатить станет, дак какой же тута круг? Та же дикая вира, как и в Новом Городи. Дак пото оттоль и ушли!
– Вовсе не платить!
– Вовсе нельзя!
– Ну, из добычи часть давать какую, из обчего!
– На што те пенязи, скажи, Анфал! Молви! Выскажи, не таи, Анфал Никитич!
– О том и речь! – дождав относительной тишины, заговорил Анфал, веско отделяя слова друг от друга: – Попа оплачивать нать? Безо церквы святой мы-ста тута совсем озвереем! Хрест-от у кажного ли есть на шее?
– Крестов ищо не пропили! – ворчливо хохотнул кто-то из председящих.
– Тихо! Тише! Анфал Никитич говорит!
– Дак того мало, ватажники! – продолжил Анфал. – Кто из вас грамоте разумеет? – вздынулось несколько десятков рук, но иные сидели, свеся головы и брусвянея.
– То-то, мужики! В войске нашем грамоту разуметь должны вси! Дабы не уступать вятшим! Тут о боярской господе говоря была, дак безо грамоты нам не уступить вятшим не мочно! Без того ни памяти не сохранить, и никакого приказного дела вести не мочно, и даже на кругу баять нельзя! Должон есаул записи иметь с собою, как там и что, с кого взято, куда истрачено. И кажный должен уметь прочесть грамоту ту! А потому надобно нам училище, яко в Нове Городе Великом, на общинные деньги цьтоб, а за научение никому не платить! Круг должон содержать училище то! Так, други! И на оружие нам надобно серебро. И по тому всему и говорю я: треть от любого заработка! А что твоя треть, Онфим, – оборотил он строгий взор в сторону Лыка, – поболе хошь еговой трети, дак то иная печаль. Завтра тебе не повезет, изувечат тя бесермены, постареешь, опять иное что, какая напасть: мор, пожар, ворог – и станет твоя треть меньше воробьиного носа! Ты вперед думай, Лыко, не утыкайся в един нынешний день! И пойдет твоя треть опять же на дела общинные, на то, что надобно всем нам! И еще с тех пенязей…
– Тихо, тихо! Досказывай, Анфал!
– И ишо с тех денег круг должен помогать убогим, увечным, сирым, старикам. Неможно казаку милостыню сбирать! Позор! Погиб в бою казак, дети – малы, кто поможет? Круг! А вырастут – свое дадут миру, ту же треть. Так вот и не будет барства промеж нас и той неправоты, от которой ныне бегут из Нова Города на Вятку!
И загомонили вновь, и зашумели одобрительно. И хоть кто и пробовал толковать, что, мол, многовато, треть-то с заработанного, да как воспомнили о школе, о том, что опосле училища кажный из них станет грамотен, подняли на голоса: «Треть! Треть!»
– Пущай миром решают, соборно! – изрек Анфал.
– Цьтобы никоторого противу не было, перемолвите друг с другом, мужики, не на день, на век решаем!
Спорили. Убеждали друг друга. В конце концов и самые упорные, тот же Лыко, сдались. Треть так треть. И быть по сему!
– А кому помогать, ето как? Кто-то решат? – вновь вставился въедливый Онфим Лыко. – Войсковой атаман, цьто ли? Ты, Анфал?
– Круг! – твердо отверг Анфал. – Со стариками решать, и кто там обделен, кого атаман позабудет, тоже жалобу приносить на круг! Иного атамана, что позабудет поддержать семью знатного воина, что на рати пал, и наказать мочно, и сместить, не дожидая года. Тут уж пущай в колокол ударят да круг созовут!
И о том поспорили вдосталь, в каких случаях, как да почему возможно, не дожидая года, атамана сместить. И о том, как на кругу баять, и что в случае согласия шапки кидать вверх, а не согласны, дак кричать: «Не по совести судишь, атаман!»
И о том порешили, что круг мог поучить и простить, тогда «ученый» благодарил и кланял миру. А могли и забить до смерти или не простить вовсе. И тогда такого казака мог убить любой и каждый безо всякого суда.
Вырабатывалось, яснело понемногу устроение, которое, где раньше, где позже, стало всеобщим устроением казачьих дружин, возрождалось раз за разом и в сибирских ватагах, и в войске Игната Некрасова. И все та же называлась треть заработка, что шла на общинные нужды, и те же наказания провинившихся плетью на кругу, после чего «ученый» должен был кланяться и благодарить мир, и то же почтение к старшине, к бывалым, в походах поседевшим старикам. И та же строгая власть атамана – велит, сделай! Хоть на смерть посылают. И так же по воле круга неугодного атамана отрешали от власти, лишали всех должностей и даже наказывали, пороли, ежели заслужил.
На окраинах великой страны, укрепленной высшею властью единого наследственного правителя, возникал и упорно жил демократический навычай выборной народной власти, власти народа-войска, благодаря которому и росла неодолимо, и ширилась с окраин великая страна.
Уже все устали, и Анфал объявил перерыв. Раздавали хлеб и куски жареного мяса, разливали квас. На кругу требовались ясные головы.
– О чем еще гуторить? – вопрошали, запивая квасом холодную снедь.
– О самом важном! – отвечал Анфал. – Мы главного еще не решили, как жить, как строить семью, чтоб корень наш не исчез, не исшаял в веках!
– Ишь ты, главного! – удивлялись иные. – А ето все что же, не главное пока?
Но когда, отъев, заговорили снова, оказалось, что прав был Анфал: тут-то и подступила главная труднота!



