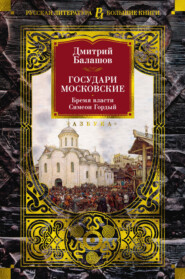
Полная версия:
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
Или послать грамоту тверского князя в Орду?! Нет, пущай полежит. Не сейчас. Не надо сейчас…
И вот главный враг. Александр Тверской. За то, что смел, за то, что безрассуден. За то, что сын великого отца. За то, что брата его старейшего, Дмитрия, он, Калита, и в самом деле помог уморить в Орде…
И подумалось в те поры: по чести сказать, и суздальскому князю, Александру Василичу, почто так уж заботить себя поимкою тверского князя? Тягался с ним, Калитою, о великом столе. Получил Поволжье и Владимир. Сейчас, слышно, строит свой Нижний, ладит туда перевести стол из Суздаля и, поди, больше всего боится, как бы московский великий князь не наложил руку на Нижний Новгород!
Он, Иван, тогда все еще надеялся. Прехитрое, как казалось самому, послание сочинил – на благородство Александра надея была да еще на страх татарский: «Аще не приведем в Орду князя Александра Михалыча, вси от царя Азбяка отечества своего лишены будем и смерти преданы и землю Русскую пусту сотворим». А самому Александру тогда же с владыкой Моисеем и Авраамом, тысяцким новогородским, послал: «Царь Азбяк всем нам повелел искати тебя и прислати к себе в Орду. Поиди убо к нему сам, своею волею, да же не привлечеши ярости его на всех нас! Удобно бо тебе есть за всех пострадати, нежели нам всем тебя ради пропасть и пусту всю землю створити».
Лукавил. Знал он Узбека, как себя самого! Понимал, что Узбек трус, получит серебро и утихнет и за то, что не поиман Александр, не накажет уже никого. Была, однако, надея: Русь… обчая беда… отвести… Не то время! И никого не обмануло клятое послание. Плесковичи решительно воспротивились: «Не езди, княже, все за тя главы своя положим!» Да и новгородцы не ревновали о сече, ни тверичи, ни суздальский князь… И вот – и всё! Рушилось. И понял это в тот миг, когда, испугавши его, Константин отбыл, и продолжалось тяжелое вращение в сырой снежной каше кованого колеса, а растерянные рожи молодших оборачивались от него к застрявшему возу, и пар шел от тел, от лиц, от расстегнутых мохнатых зипунов… Бросилась в очи чья-то зеленая рукавица на снегу, яркая, как березовый лист, непонятно почему в точности похожая на его собственную (и почтительно тут же поданная Ивану стремянным). Оказалось – уронил, не заметив, и в том было что-то, унизившее его. И в том было паки униженье, что побоялся спросить про Акинфича, а слухачи донесли вечером: верно, оттоле! Прискакал с супротивныя стороны, и сносят между собою. Вот и понимай! И приступ к Плескову без стеноломов, без пороков камнеметных… Даже и он, Иван, понимал, что отобьют, с соромом отобьют их плесковичи! А суздальцы дадут московитам пойти напереди и не поддержат. Поддержат ли новогородцы? Ой ли! И что же тогда? И чьей головой покупати будет трудный мир с ханом: Александровой али его, Калиты, главою?
Решение пришло к нему ночью – спасение! И уже не спал до утра, и уже на рано-ранней заре ринул, аки агнец в скорби, ко отцу небесному прибегая: Феогност! Пасть в ноги присланному из Царьграда греку, просить, молить: да своею волею – волею нового митрополита русского – пристрожит, прикажет плесковичам! Умолил. Феогност наложил проклятие на плесковичей. Те и еще поупирались, но в конце концов пред церковною властию сдались. Александр ушел в Литву…
Разумеется, уйти ему дали без препоны. И проклятие (хоть и супруга, и дружины немалое число, и казна княжеская остались во Плескове) тотчас было снято с города, и все сошли в мир и любовь. А он… он сел за тяжкое послание хану Узбеку. При поминках. При серебре новгородском, что иначе осело бы в его великокняжеской казне. И как спешно, как резво, выдирая возы и сани из провалов и водомоин в рыхлых весенних путях, из снежной каши в самом деле развезшихся дорог, незаботно оставляя тяжелый припас в новгородских рядках до сухого летнего пути, шли, и шли, и шли, торопливо откатывая домовь, домовь, домовь! К жонкам, в дымные избы. Ладить упряжь и снасть, пахать, сеять. И уменьшалась, растекаясь, рать, ручейками уходя в налитые солнцем леса, в синюю даль дорог. Уходили суздальцы, уходил владимирский полк, нынче пришедший под воеводством суздальского князя (не всё и не вдруг выдала ему Орда!). Уходили, откалывались тверичи, шли, приметно избирая иные от московитов дороги, и таяло, уменьшалось войско великого князя. А лица у всех радостные, весенние – никто не хотел ратиться в этой войне!
Вот сейчас он выйдет из полутьмы церковной. Будут двор, нищие, что ждут его, великокняжеской, неукоснительной милостыни, храмоздательство, затеянное ради нового греческого митрополита Феогноста, бояре с делами, дьяки с грамотами и старший сын Симеон, такой еще мальчик, столь еще беззащитный пред грозным величием власти!
Иван поднимает лик горе, и долго глядит на большого «Спаса» московской работы, и видит вдруг, что лик Спаса суров и жесток, и пронзителен зраком, и морщины округ широко разверстых глаз и около рта Спасителя тонки и горьки. С кого писал образ сей московит-иконописец? Чей зрак, чью густоту волос, чью жестокую сеть морщин держал он в мысленном взоре своем? Иван редко гляделся в полированное серебро зеркала и забывал порою о печатях времени на лице своем. Но сейчас постиг, припомнил и ужаснулся: лик Спаса на иконе не являет ли тайная тайных его, княжого лица? Понимал ли его иконописец? Провидел ли умным взором или сам для себя неожиданно измыслил такое? Или жестокое столь вкоренилось нынче в московском дому, что и писец иконный, мысля о Спасе, не иначе видит горнего учителя нашего, Иисуса Христа?
«Господи! К тебе прибегаю! О земле своей пекусь я в жестоце и хладе сердца своего! Повиждь и внемли нижайшему рабу своему!»
Он рывком встает с колен. Осеняет себя последний раз крестным знамением. А земля – вот она! Курящие паром поля, леса и деревни, муравьиная работа мужиков и баб… И неостановимое, как время, возрождение тверской силы.
Глава 2
За порогом церкви его обняла и разом успокоила сверкающая свежесть мая, лезущая отовсюду трава, рудосерые просыхающие бревна, и нечаянные березки по-за теремами в зеленом дыму, и заречный простор лугов и красных боров по-за верхами стен, и легкий – после ладанного дыма – ненасытимый весенний дух с той, луговой стороны.
Стража раздалась посторонь. Он ступил с крыльца и пошел, строго утупив очи, не хотя видеть выставленного напоказ и немо, а то и с легким жалобным ропотом протянутого к нему человечьего уродства. Все же пришлось придержать шаг и, раскрыв калиту на поясе, достать горсть серебра, которое, однако, не стал нынче сам раздавать нищим, а передал постельничему, примолвил негромко:
– С рассмотрением!
И тот, с полуслова поняв великого князя, приотстав, начал обходить, расспрашивая и оделяя, нищую братию. «Только на молитве и оставят в покое!» – подумал Иван, уже не радуя солнечному дню, и убыстрил шаги. Впрочем, от домовой церкви до крыльца теремов путь был недолгий.
От глыб камня, привезенного по зиме санным путем и сваленного в высокие кучи прямо на снег, тянуло погребным, кладбищенским холодом. Земля округ куч была еще сырая: видно, недотаял заваленный камнем лед там, внутри. Камень ломали еще с осени и возили на Москву с Филипьева поста до Пасхи – доколе стоял лед и держали пути, – загородив и заставив камнем едва не пол-Кремника. Резко чернели невдали, под невысоким утренним солнцем, рвы начатой церкви Ивана Лествичника. «Послезавтра закладка храма!» – напомнил себе Иван, поглядев в тот конец. Послезавтра, двадцать первого мая, был день памяти кесаря византийского Константина и его матери Елены – основателей Царьграда, Второго Рима. День этот для закладки Иван выбрал сугубо и со смыслом. Иван Лествичник соименный Ивану святой, а Еленою зовут его супругу. Все было со значением, и хоть въяве слова о Третьем Риме – Москве и не были сказаны, но – чтущий да разумеет! Выбор имен и освященного дня говорил о многом, и ученому греку Феогносту то будет зело явственно!
Новый митрополит, спасший его под Псковом, был еще не стар, ясен зраком, велегласен и деятелен. Под смуглотою южного загара просвечивал здоровый румянец, в движеньях являлись твердость и быстрота. Все говорило о нраве решительном и самоуправном, даже самовластном. Было достаточно внятно, что послали его неспроста, а сугубо вопреки и вперекор московскому хотению поставить своего преемника Петру, Феодора, отвергнутого цареградской патриархией. И в этой решительности патриаршей были свои язва и заушение. Мнилось прежде, при Петре еще, возможет и в Орде одолеть христианская вера русская. Не одолела. Не на том ли сломался и сам Михайла Тверской? Не оттого ли так и с Царьградом ныне круто содеялось? Словно с воцареньем в Орде Узбека поменела, умалилась лесная Владимирская Русь! Словно уже и не с кем, и не с чем считаться кесарям и патриархам византийским на здешней земле! А может быть, и еще того хуже! О чем и думать соромно. В Цареграде рать без перерыву, внук встал на деда. Андроник Третий на Андроника Второго. Византийские кесари ищут теперь помочи у франков да фрягов, сносят с римскими папами… Не в угоду ли католикам назначен на Русь Феогност? Тогда все даром и все впусте!
При встрече новый митрополит, посетив гробницу Петра и бегло озрев Кремник, посетовал на скудость града Москвы. Свысока оглядев рубленые терема клети и церкви изрек мимоходом:
– Прилепо стольному граду имати храмы из камени созиждены!
Рек – и как окатило стыдом. Иван бросил тогда почитай все, что имел, на каменное храмоздательство, дабы заносчивый грек внял и постиг, воротясь на Москву, что не слаб и не жалок перед ним властитель Владимирской Руси. (Хоть и то примолвить надобно, что не от великой силы заманивает он к себе митрополита русского. Уедет Феогност в Литву, к Гедимину, и – всему конец: Москве, великому княжению, а может, и самой русской земле!)
Как долго покойный Петр молил его создати храм Успения Богоматери и как долго собирался он, как медлил исполнить волю Петра! И сколь своего, церковного добра дал Петр на создание храма! А теперь? Петр был свой и добрый. И он, Иван, капризничал с ним, как дитя пред родителем. И ведь нет в нем ныне нелюбия к Феогносту, в самом деле нет! Поначалу осерчал, – когда оттуда, из Цареграда, осадили его, словно норовистого жеребца, отвергнув архимандрита Феодора. Но лишь только некие из ближних стали недовольничать новым митрополитом, он, Иван, первым окоротил хулителей:
– Всякая духовная власть от Бога!
Они все не понимают (и Михайло Тверской не понимал!), что надо принимать то, что есть, и из этого делать потребное. «То, что есть» значило: не идти войной на Псков, ежели этого никто не хотел; не лезть на рожон с татарами, всегда и во всем внешне угождая Узбеку. И тут, в делах церковных, важнейших, чем прочие, приноравливать к присланному гречину, а не спорить противу судьбы. Так вот, заметив, что тому нелюбы древяные храмы Москвы (грек – приучен к камению многоценному!), все силы и бросил на создание белокаменной церковной лепоты… И тут же укорил себя, воспомня прежние уговоры Петровы. Как порою с близкими себе менее бережны бываем, а нельзя так! Увы, и он в этом не лучше прочих! Стал ли бы он при Петре созидать разом, как замыслил ныне, четыре каменных храма на Москве? Так что ж, выходит, что и все в жизни требует грозы али понуждения? Доброта излиха не то же ли зло для лукавого и леностного раба Божия? Почто у добрых родителей почасту плохие чада, нерадивые и неумелые к труду? Нужно, ох нужно жезлом железным учить и направлять всякого смертного: да не оскудеет и не ослабнет свершая труды свои! И для него, Ивана, Феогност ныне – жезл железный. И за то, что скупился тогда, при Петре, излиха, за то он нынче давно уже не считает на церковное дело ни серебра, ни сил, ни припаса снедного…
И пусть не насмешничают над его малою Москвой! Он отселева не уйдет! Не Юрий! Ни в Переяславль, ни в Володимир, ни в Новгород Великий! Здесь будет стольный град Руси! На этих холмах! Не мог святой Петр так обмануть себя в чаяньях своих, а он предрек, умирая, величие граду сему! А Петр – святой. И надобно паки и паки хлопотать о канонизации блаженного! Паки и паки надо слать патриарху о сем деле! И пусть новый митрополит хлопочет такожде о признании святости покойного! Даром, что ли, он, Калита, строит на Москве каменные храмы? Верно, мал его город. И перед Тверью мал, и перед Новгородом, а уж о Цареграде и речи нет! Но вот: Петр видел Цареград, а не почел ничтожным град Московский!
С этими мыслями, освежив себя гневною обидой, Иван ступил в сени княжого терема. Тотчас с лавки, с поклонами, поднялись два боярина. Один из них, Мина, был посылаем им в Ростов, в помочь Василию Кочеве. Ростовское серебро собиралось туго, и Иван требовал решительных мер. Завидя Мину, похотел было отправить его еще до трапезы, но сдержал себя. Трапезовать великого князя ждали архимандрит Данилова монастыря, четверо думных бояринов и посол иноземный из кесарския земли, допущенный к трапезе по совету старого Бяконта. Иван давно уже научил себя трапезовать с важными гостями, хотя порой и долило: хотелось простоты, уединения. В уединении лучше думалось и вкушалось способнее. Не надобно было брать серебряную двоезубую вилку, не надобно было и ждать, когда стольник с поклоном подаст новое блюдо… Ладно, все одно надобно отпустить гостя! Немец просил грамоту на проезд торговых гостей в Орду. Бяконт с Сорокоумом уже дознали, какие товары надобны в немецкой земле, и предлагали самим продавать потребное, а в Орду гостей зарубежных не слишком пускать. То было разумно, и следовало только не отпугнуть посла, не то уйдет в Тверь, а с ним и немецкие сукна, и добрый уклад, и оружие, что привозят из ихних земель торговые гости.
Немец был невысок, но плотен. Поклонился с достоинством, не роняя себя, по-журавлиному отступив назад и взмахнувши плоскою немецкой шапкой с пером заморским. Иван сел. Уставно, по чину, уселись бояре. Слуги внесли горячую мясную уху, разлили мед. Иван, по своему обычаю, потянулся сперва к блюду с мочеными яблоками. Немец, не трогая вилки, орудовал ножом, рвал и грыз мясо, крупно глотая. Свои бояре не отставали от иноземного гостя, и за столом на время установилась сосредоточенная тишина. Иван вкушал мало, больше наблюдал за гостем. Тот наконец откинулся на лавке (уже подавали кашу и кисель), многословно благодарствуя великого князя владимирского. «Сейчас начнет обиняком просить пути до Сарая!» – подумал Иван, утверждаясь все более в том, что Бяконт прав: пущай торгует с Москвою! Видно, и тверичи не очень им потворствуют, да нынче без воли великого князя и Тверь проезда в Орду не решит!
Немцу отвечали свои бояре. Постепенно завязался разговор. Слегка захмелевший немец вздумал поучать русичей (он добре знал русскую молвь и почти не ошибался в словах). Бояре горячились. Иван слушал с любопытством. Послы иноземные были еще внове для него, и он тщился понять, что же самое главное в этом зарубежном госте? Что кроется за шелухою слов, за цветистыми и высокоумными славословиями великому русскому князю? Гордость он уже понял. Понял и скрытое небрежение и небрежению тому усмехнулся про себя, не дрогнув и не изменясь лицом. Прав Бяконт, прав! На Волгу пускать их не след!
Посол меж тем расхваливал ихние немецкие товары, высокопарно изрекал о законе имперском, о том, что только сильный и владетельный повелитель (тут он поклонился Ивану) возможет заставить всех горожан и черных людей хорошо работать и не лениться («Добро роботати и не ленити себя», – сказал он), такоже, как это у них, в земле немецкой.
О том, что творилось в немецкой земле, бояре были, однако, наслышаны хорошо и почали возражать гостю. Иван мягко, мановением руки, утишил поднявшуюся было прю и, впервые разомкнув уста, молвил послу:
– Со скорбью можем сказать, что иноземный гость изрек правду. В наших землях не всюду спокойно, и проезд купцам зело труден там, где кончается волость Московская! А посему лепше вам товары свои обменивать на Москве!
Немец растерянно уставился на Ивана, с опозданием поняв, что разговор поворотил в сторону, выгодную русичам, а не ему. Но великий князь уже склонил голову, отпуская иноземца, и тому пришлось, опять с поклонами и хвалами, покинуть палату.
Иван, усмехнувшись одними глазами, оборотил лицо к сердито взъерошенному Сорокоуму:
– Мыслишь, не прав немец сей?
Старый боярин тотчас взорвался опять, пристукнув посохом, словно все еще споря с немцем, и сердито глядя чуть мимо Ивановых внимательных глаз:
– Заставить хорошо работать плохого работника нельзя! Ты мастера удоволь! Доброму мастеру дай леготу для работы!
– Тогда и плохой потянет учитися мастерству! – спокойно поддержал Сорокоума доныне молчавший Василий Протасьич. Сорокоум кинул глазами в сторону молодого тысяцкого, задышался, мотнул головой, неотступно примолвил:
– Посему! Преже люди, потом товар! Не о том, что получить, хоть и из тех земель заморских, а о том, чтобы мастер в нашей земле был ублаготворен и ревновал о деле своем, – вот о чем должна быть главная дума княжая! У нас почни прижимать, стойно тому, как в немецких землях ихних, и все по лесам разбежат, и все княжество запустеет! Альбо запьют, али в разбой кинутся, а уж коли друг друга грабить учнем, тут и конец Руси Великой!
Сорокоум говорил дело. Ивану и самому не по нраву пришлась немецкая выхвала. По своей многолетней работе на Юрия довольно познал он, что значит плохой работник и что значит хороший на месте своем. Плохого, и верно, ничем не заставишь работать. Не заможет!
«Мастеру – леготу, земле – тишину и закон праведный», – продолжил Калита мысленно речь боярина. Он давно уже умопостигал сие, еще при митрополите Петре, когда они вместе переводили и правили уставы, соединяли «Мерило праведное» с византийским «Номоканоном» и составляли книгу «Власфимию», противу еретиков и хулителей церкви направленную. То понял, что никому не надобны скачки и премены, никто не жаждет крушить и ломать – разве голь перекатная в чаянии скорой и недолгой наживы. А надобна всем тружающим – такожде как греку Феогносту каменная храмовая твердость – твердая вера в устои, в незыблемость власти и всего, что покрывает и защищает власть: добра, скота, лопоти, привычных навычаев и обихода, всего, что от дедов и прадедов нерушимо и извечно. Надобна вера в прочность бытия! Смерд ли поставит избу на росчисти, купец ли обзаведется хоромами на Москве, боярин ли измыслит двор с повалушею – у каждого и любого должна быть надежда на то, что, когда угаснут силы, никто не выгонит и не выбьет его вон из двора, никто не сгонит с земли, не зазрит и не обидит, никто не велит переделывать наново, а так вот – в этом дому, хоромах, терему ли – и умереть позволят ему в чести и покое, и детям чтобы оставить цело и непорушено, и быти спокойну и за детей, и за внуков и правнуков. И в том, быть может, самая великая и главная сила власти, что она каждому дает уверенность в завтрашнем дне. А вот в чем величайшая печаль и беда власти вышней, что сам-то он Иван, ныне став главою Руси, менее всех прочих граждан своих уверен в дне грядущем!
Всё могут. Могут и в Орде уморить. Могут и здесь восстать противу. Сейчас в его руках великий стол. А потом? Все они равны, и тот же суздальский князь равен ему, Ивану! А уж тверской и подавно! Что важнейшее должен содеять он, ото всех отличное, дабы передолить – навсегда, насовсем! – и Тверь, и Суздаль, и Новгород, и прочие грады и веси русстии… Что?
Да, разумеется, совокупить землю! И – не войной. Не разоряя. И – чтобы тянули к Москве, а не к иным княжествам. Стало, он прав, что шлет Мину с Кочевой в Ростов за неукоснительной данью! Иначе – с чего же брать! Зорить Москву нельзя!
Строго подумал так и вдруг невольно прикрыл глаза, такою резкою болью прошло воспоминание: узкая Машина рука, прохлада ее слегка потной ладошки на его заботном челе… И увидел ее всю, и словно нежною болью овеяло сердце: Маша, любимая дочь, нынешняя княгиня ростовская, и Мина с Кочевой. Серебро. Проклятое серебро для проклятой Орды!
Нет, он прав, все равно прав! Иначе бы не было такой боли и такой нежности в сердце. Он никого не обманул. Он просто не может иначе!
Глава 3
Бояре ушли. Слуги начали прибирать со столов. Иван, помедлив, вышел из покоя. Его ждали дела, и он, даже думая о Маше, не имел права медлить сейчас. Мина ждал.
– Серебра много в домах боярских, у горожан в скрынях. Пущай с жонок колтки и чепи сымают! – Иван, вперяя взор в преданные глаза Мины, знал сейчас, что похож на брата Юрия и еще, быть может, на тот жестокий Спасов лик, но и зная, не смягчил ни взора, ни слов. За ярлык ростовский было дано столько, что даже и Юрий не вдруг решился бы на такое. А взять надо было вдвое. И пущай Мина с Кочевой это поймут, пущай деют с насилием великим, но соберут ростовскую дань! Этот его замысел не должен пропасть. Иначе – не стоять великому княжению. И это было первое, чего не мог, на что не решался Михайло Тверской. А он, Иван, «тихий и скромный», – решился. Пускай его заклеймят, яко татя, но он сим серебром соберет воедино Русь! И пусть черный народ тянет к Москве!
Мина мялся, получив грамоту, все не уходил. Решившись наконец, ударил челом. Двое оружных дворян Мининых сблодили: разбили обоз купеческий, да и над смердами деяли сильно, как узнано было на правеже. И теперь оба были повинны казни.
Иван внимательно поглядел в глаза боярину. Сказал чуть хрипло, голосом покойного брата:
– Баловали люди твои и допрежь, при Юрии! И это мне ведомо! Людишек разбивали отай, было?!
Мина понизил глаза:
– Было, княже! Дак прочие робяты в сумненьи теперича, как бы то и им… Вси огорчены, вишь! – Сказал и поперхнулся – так темен и страшен был сейчас недвижный взор Ивана.
– Скажи молодцам, – произнес тот с тихою медленною силой, – что грабить своих – это себя самого сожирать! Ни разрешить, ни простить сего князю немочно! Когда бьют своих, это конец! – почти выкрикнул он, возвышая голос. – Конец власти, языка, земли, всего сущего в ней! Так и погибла Русь при Батые! Пущай поганые режут друг друга! Не мы! – Он примолк. Договорил спокойно: – Мне во княжестви своем потребны тишина и от татьбы бережение. Злодеи те будут казнены завтра из утра. На Болоте. Приведешь дружину, пущай поглядят: умнее станут впредь! А прочим скажи: и им то же будет, да и тебе, боярин, не сносить головы, ежели на Москве разбои учнут творить! Посылаю тебя в Ростов, тамо и зипунов добывай своим холопам!
Мина ушел. Тут было все ясно. «Робяты» поозоруют в Ростове досыти, но серебро соберут. А как иначе? Прежним Юрьевым молодцам не дай воли – и на Москве не удержишь от разбою! Пусть уж в ином княжестве шкоды творят. Он прикрыл глаза, представил себе завтрашнее позорище, что неволею придет зрети и ему самому: помост с плахой, толпу горожан, купцов и смердов, с радостным любопытством взирающих на зловещую исправу – не часто казнят дружинников на Москве! – позорную телегу с двумя Миниными «робятами», палача в красной рубахе, священника со крестом, и то, как жадно и долго целуют крест обреченные смерти, и последний жалобный крик, и кровь, и тяжело падающие в корзину головы, и ропот и шум толпы, вздохи и возглашения жонок, невесть с чего, словно на скомороший праздник, прибегающих кажен раз позоровать на казнь.
Все ж таки гнев опустошил его преизлиха. Лоб был в испарине, и должный покой долго не снисходил к душе. С тем большим облегчением ступил он, после полудневного перерыва, за порог книжной палаты, где переставал быть властным, а становился только мудрым и где не позволял себе никакой, даже невольной грозы. (А меж тем изограф-иконописец узрел и тут в нем сугубую твердоту!)
Он дорожил этими часами тишины, где были вдумчивая работа писцов, да шорох раскрываемых и развертываемых харатий, да порою беседа, всегда не о суедневном, а о том, что выше и тоньше грубых забот дня. Здесь он не позволял никому величать его преизлиха, и лишь когда дьякон-писец, заключая «Правду», сравнил его с Юстинианом – не острожил, не остудил: знал, что это нужно. Не скажи сего дьякон, он сам бы подсказал сравнение.
Нынче токмо начал уставать. Давно неинтересно стало сличать статьи законов, велеть казнить татей, добиваясь неукоснительного исправления на деле писаного слова. С охотою бы переложил на плечи властей церковных и дела душегубные, князю подсудные, но – не имел права. Возропщут многие, и пошатнет уважение к власти. Посему судил всегда сам, не складывая даже и на бояринов великих.
Однако эта глава «О градском устроеньи», кою нынче подал ему сводчик с греческого, живо заняла и развлекла Ивана. Поскольку касалась она главнейшего сейчас, что занимало и долило Калиту с того еще беглого замечания Феогностова о его любимой Москве (тогда, почитай, и понял, что любимая, а то все было недосуг помыслить о сем, а только труды, труды, труды, и за трудами как-то не приходило знатья, что давно уже стало тут все от души неотрывно).
«Закон градской» разбирали по статьям. И о местах возвышенных – для храмов; и об улицах – да не пройдут прямо, яко стрелы, но каждая да примет потребную глазу и стопе кривизну; и о домах, что не должны касатися друг друга, но на потребном расстоянии, в двенадцать стоп, – дабы и глядеть из окон можно было бы вдаль, на море…

