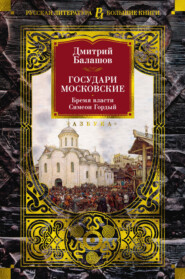
Полная версия:
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
– Поди, повались на мал час! День-от трудный грядет у тебя.
Утром Иван вызвал Протасия и, стараясь не глядеть в глаза старому тысяцкому, попросил об услуге:
– Из Ростова бегут. Бают, сирые там, разоренные, всяки… Дак ты поезжай, повидь тово! Может, и к нам привести, под Радонеж. Я те места по духовной младшему своему, Андрею, оставляю. Дак и населить мочно!
Старый тысяцкий не выказал ни удивленья, ни радости. Отмолвил:
– Погляжу, князь-батюшка! Сам поеду. Людей отберу добрых. Хлеба, снедного припасу надоть попервости.
– Леготу им устрой, я грамоту дам!
– Само собой, батюшка-князь! Народ истомленный, да и так – новы земли, поди распаши их да устрой домы, и хлевы, и все прочее. – Подумал, пожевал губами, поглядел прямо в глаза князю. Прибавил: – Да и для души легше! Сирого приветить – иной грех Господь в доброту зачтет!
Не одобрял даже и Протасий грабительства ростовского.
Утром из Москвы на Коломну потянулись возы и возки, верхоконные кмети и снова возы и сани с разноличным добром. Двигались, уходили, покидали город, на ходу прощаясь с оступившими дорогу посадскими жонками. Иван верхом, в бобровой круглой шапке, выставив бороду неощутимо отцовым движением, Даниловым, озирал спускающийся с горы бесконечный обоз. Князь Константин осаживал нетерпеливо рвущегося скакуна, готового ринуть вскок вослед проходящей коннице.
– С Богом! – последний раз перекрестясь, произнес Иван, махнул рукавицей провожавшему его сыну и под колокольный звон новостроеных церквей московских тронул коня.
Глава 22
После московского разоренья жить стало невозможно совсем. В порушенном дому ростовского боярина Кирилла только и речей ныне: куда подаваться? В Белозерско – дак и дотоле уже досягнули долгие руки московита… На Шексну али Сухону? Страшно, не своя сторона! Посылывали слухачей и в Устюг, и в Тотьму, судили и рядили так и эдак, съезжались родней, с Тормосовыми, и вновь судили-пересуживали, и все об одном: куда бежать? Где найти укрытый угол, землю незнаему, за какими горами, морями ли, за какими лесами синими затаить, сокрыти себя от злобы людской, от власти ненасытной и предерзостной, не ведающей святынь отних, ни добрых навычаев старины? Куда спастись от московской грозы?
Ныне вновь ожила давняя легенда о Китеж-граде, и уже не татары Батыевы разумелись в предании том, не от них – от московского деспота уходил в глуби озерные зачарованный город.
Да ведь и велика же Русь! Протянулась непроходными дебрями семо и овамо, где весь, чудь, самоядь, дикая лопь и иные языки незнаемые! Можно и не на серебре, можно и без сорочинского пшена да ягод винных. Можно и в лаптях, и в посконине порою… Лишь бы свое, человеческое оберечь от гнуса и смрада, от унижения всеконечного, когда в лицо тебе наглый победный смех, и речи поносные, и заушение, а ты только низишь глаза или уж – коли душно станет и сердце сожмет во грудях – закричишь слезно и жалко, не ведая, камо рещи… Чем и как помочь себе в сраме и скверне, как спасти нажитое годами и трудами, тут враз потерянное прежнее достоинство свое?!
…Единая свеча, оплывая, разгоняет сумерки в высокой боярской горнице. Две, чудом спасенные, погнутые и невзрачные видом серебряные чарки стоят на столе среди глиняных и деревянных кувшинов, мис и тарелей. Боярин Кирилл с Тормосовым сидят, горюнясь над недопитыми чарами кислого меду. Мария штопает старые дитячьи порты, благо уже ночь и не перед кем чиниться сейчас. Сторонний человек не зайдет, не осудит. Прохожая старица, давняя знакомая Марии, сказывает неспешно и устало, и голос ее звучит из темноты, словно доносясь откуда из дали дальней:
– В Заволжье было то, в лесах непроходных. Ноне и зраку нету, ни пашен, ни полей, все бором дремучим заросло. Озеро одно, ясное-ясное, и звоны, верным людям одним только и слышимые… Татары, вишь, искали полонить, ан Китеж туманом одело, и неслышимо так, незримо, тихо таково! Татарчонок один подбежал к воде, а тамо и зрит: град под водою, и домы, и костры, и церкви Божьи, и звоны колокольные – все по-старопрежному, вишь, как при дедах-прадедах было, и не порушено, и не разорено, а и недостижимо уже содеялось ни для каких находников, ни для татаринов тех…
– Ни для московитов! – глухо подсказывает Тормосов.
Оба согласно кивают головами. Драться, отстаивать святыни ныне нельзя. Остается одно – бежать, сокрыти себя, яко Китеж-град, в лесах потаенных, в зачарованной глуби вод… И тяжко клонит боярин обнесенную сединою голову, ибо и бежать ныне, кажет ему, стало уже некуда.
Кирилл с горем чуял и видел, как доконал его московский раззор. Слуги стали совсем поперечны и грубы, чего накажешь – не содеют вовек. Опомнясь сам взялся за секиру: взамен ленивого раба начал рубить дровы на заднем дворе. Начал сильно, да, задышавши, взопрев, скоро и бросил. Прошло, прокатило! Куда исчезли силы и на что истратились годы невозвратные? Бывало, тою же секирой играючи валил дерева; бывало, одною рукой, взявши под уздцы, останавливал он шалого коня! Не в той ли ордынской пыли, в долгих и пустых посольствах княжеских, не в той ли думе ростовской, где всё только и решали, как бы и за чьею спиной удобней прожить, исшаяли силы богатырские? И на что ушла вся жизнь, и было ли что истинно великое в ней, в жизни великого боярина ростовского, или так, даром, впусте и попусту… Вот мочи уж нет, и как наново зачинать жизнь? Не сыны бы, не отроки – впору и в монастырь подаваться!
Дети ходили смурые. Старший, Стефан, надежда отцова, тот уж и из себя выходил, почернел, почти забросил ученье (а был, как баяли, ума высокого и науку постигал легко). Так-то, примолвить, отроки из боярской семьи долго могут не замечать надвигающейся гибели дома! Ну каша взамен белой, сорочинского пшена, является пшенная на столе, ну коней поменело на дворе, ну шелковые порты стали надевать по одним лишь праздникам… Для второго сына, Олфоромея, что наповадился отдавать рубахи прохожим беднякам и потому, ради береженья, вечно ходил в посконине, то было и незаметно совсем. Да и не тем была занята голова юного отрока, что сызмлада, упрямо, не слушая увещаний матери, соблюдал все посты и часами выстаивал на молитвах…
Но все то было допрежь, до часу, теперь же не токмо Стефану, но и Варфоломею, почти младеню сущу, приходило задумывать о грядущей их невеселой судьбе. Он с надеждою взирал на обожаемого старшего брата: быть может, Стефан придумает что-нибудь, что разом спасет и отца в его унизительной бедности, и мать в ее бессонных заботах, и весь их ветшающий дом? Но ничего не мог надумать Стефан, лишь мрачно сжимая кулаки, меревший горничный покой большими шагами. Рушилось. Военные послужильцы один по одному разбредались кто куда. На семью великого боярина Кирилла зримо и страшно опускался мрак всеконечного оскудения.
Тут и спас их стрый отцов, Онисим, как-то о Пасхе ворвавшийся в дом радостный, громогласный, с диковинною вестью в устах. По его сбивчивому рассказу выходило, что сам маститый тысяцкий Москвы, Протасий, созывает убеглых и оскудевших ростовчан переселяться на земли Москвы. Дают леготу на пять лет и справу на первое обзаведение.
К Ивану Данилычу? Ко вчерашнему лютому ворогу своему?! К тому ж, век проведя в думе княжой, так привык Кирилл держаться Твери и тверского княжеского дома, что сказанное стрыем в голове не умещалось никак. Кричали, даже поругались, едва не впервой. Криком выходила обида, погубленная жизнь, бессилие перед днешней бедой. Но, поспорив досыти с Онисимом, погадав, помыслив, потолковав ночью с Марией, вдруг как-то, сам для себя, начал Кирилл понимать и принимать неподобную попервости весть. И место было названо – Радонеж, в полутораста поприщах от Ростова всего, не надо забираться в дальние дали, где ай проживешь, ай погинешь с семьей непутем… И уже стало ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой. Начались хлопотливые сборы.
Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил как о решенном:
– Едем в Москву!
– В Радонеж! – поправил брата Варфоломей, которому по нраву пришло незнакомое красивое имя. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно-сумрачно, повторил нетерпеливо: «На Москву!» Умчался, как убегал всегда, отмахиваясь от маленького Олфоромейки. Кая труднота ожидает их – не важно. Но в судьбе, в коей поднесь все только исшаивало и рушило, явились смысл и цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, словно предвестие ясных весенних дней – на Москву!
Варфоломей, брошенный братом, вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога гнилую ступень. Спустился в сырь просыхающего сада. Была та пасмурная пора весны, когда все еще словно медлит, не в силах пробудиться от зимнего сна. Небо мглисто, еще кое-где в частолесье белыми островами лежат снега. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью вершины берез, и если бы не отвычно легкий воздух, неведомою печалью далеких дорог наполняющий грудь, то и не понять: весна или осень на дворе?
Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившее окрест одиночество брошенных хором, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака. Долгие ли ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства Варфоломея? Или шевельнулось то, смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица, то, смутное, что называется юностью? Варфоломей был не по летам рослый отрок, сильнее и выше своих сверстников. И в нем уже начал означиваться край того пушистого, нежного и ясного, что зовется детством и что готовилось окончиться в нем. Еще не скоро! Еще не подошла к нему сумятица чувств, и глухие порывы, и первые проблески мужества (хоть и рано взрослели дети в те года), но уже в обостренной остраненности взора, коим обводил он родное и уже как бы полурастворенное в тумане жилье, предчуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд…
На мгновение ему поблазнилось, словно и правда уже вымерло всё и все уехали туда, в неведомый и далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем невестимо для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому, это было одно, а князь Иван, пославший ратников за данью, и неведомый московский городок Радонеж – совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало, вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре. Сейчас об этом просто не думалось.
Волнистые, шли и шли над землею бесконечные далекие облака.
– Господи! – прошептал он, поднимая лицо к небу. – Господи!
Юность? Или горний знак Господень? Или весна? Коснулось незримо, овеяв его чело. На миг, на долгий миг исчезло ощущение холода и земной твердоты под ногами и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны.
Так Варфоломей, уже загодя, простился с домом своим, и уже все дальнейшее: сборы, ожидания, наезды Тормосовых, что тоже переселялись в Радонеж вместе с Кириллом, – шло мимо, мимо, мимо, оставляя одно – скорей!
И вот наконец долгий поезд, составленный из разномастных повозок, возков и телег, и скотинное стадо, ведомое знакомыми пастухами, зареванные жонки, мужики, бояре и челядь, благословясь, помолясь, набрав родимой земли в ладанки, с плачем, возгласами провожающих, бесконечным маханьем платков, поцелуями и воем, тронулись в далекий путь. Прощай, родимый дом, прощай, Ростов!
Глава 23
В Радонеж приехали ночью. От холода и усталости пробирала дрожь. Тело, избитое тележною тряскою, совсем онемело, а сон одолевал до того, что перед глазами все начинало ползти и плыть. Хотелось лишь куда бы ткнуться, хоть в какое-то тепло, и уснуть. Младшего братишку, Петюшу, сморило так, что холопы выносили его из телеги на руках. В темноте они стояли, дрожа словно куры под дождем, маленькой жалкою кучкой, потом куда-то шли, спотыкаясь, хлебали, уже во сне, какое-то варево, носили солому в какой-то недостроенный дом, с кровлею, но без потолка, отчего в прорехи меж бревнами лба и накатом виднелось темно-синее небо в звездах. Тут, на попонах, тюфяках, ряднине, накинув на себя что нашлось теплого под рукой – толстины, попоны, зипуны, – они все и полегли вповалку спать: слуги, господа и холопы, мужики, жонки и дети. Варфоломей едва сумел пробормотать молитву на сон грядущий и, как только лег, обняв спящего Петюшу, так и провалился в глубокий, без сновидений, сон.
Утром он проснулся рано, словно толкнули под бок. Все еще спали, слышались богатырские храпы и свисты уломавшихся за дорогу мужиков. Какая-то жонка хрипло, спросонь, уговаривала младеня, совала ему сиську в рот. Прохладный воздух свободно вливался сверху, овеивая сонное царство. Меж тем небо уже посветлело, стали видны начерно рубленные, еще без окон, стены в лохмах плохо ободранной коры и висящие над головою переводины будущего потолка в сосульках свежей смолы. Варфоломей тихо, чтобы не разбудить братика, встал, укрыл Петю поплотнее рядном и шубою и стал выбираться из гущи тел, стараясь ни на кого не наступить. С трудом отворив смолистое набухшее полотно двери, он по приставной временной лесенке соскочил на холодную с ночи, все еще отдающую ледяным дыханием недавней зимы, в пятнах тонкого инея землю и, ежась и поджимая пальцы ног, пошел в туман.
Бледное небо легчало, начиная наливаться утреннею голубизной. Звезды померкли, и нежно-золотое сияние уже вставало над неясной зубчатою преградой окружных лесов.
Ясная, стояла близ деревянная островерхая церковь. Назад от нее уходили ряды рубленых изб, клетей, хлевов и амбаров. Над рекою, угадываемой по еле слышному шуму воды, стоял плотный туман. С краю обрыва, к которому приблизился Варфоломей, начиналось неведомое, за которым только смутно проглядывали вершины леса и светло-серый, почти незаметный на блекло-голубом утреннем небосводе крест второй церковки, целиком укутанной туманом.
Вот легко пахнуло утренним ветерком. Ярче и ярче разгорался золотой столб света над лесом. Белый пар поплыл, и в розовых волнах его открылся город – сперва только вершинами своих костров и неровною бахромой едва видного частокола меж ними. Городок словно бы тоже плыл, невесомый и призрачный, в волнах тумана, рождая легкое головное кружение. Жемчужно-розовые волны медленно легчали, тоньшали, открывая постепенно рубленые городни и башни, вышки и верхи церковные. Наконец открылся и весь сказочный, в плывущем тумане, городок. Он стоял на высоком, как и рассказывали, почти круглом мысу, обведенный невидимою, тихо журчавшею понизу рекою. К нему от ближайшей церкви вела узкая дорога, справа и слева по-прежнему обрывающаяся в белое молоко.
Вот вылез огненный краешек солнца, сбрызнул золотом сказочные плывущие терема и костры, и Варфоломей, замерший над обрывом, утверждаясь в сей миг в чем-то новом и дорогом для себя, беззвучно, одними губами, прошептал:
– Радонеж!
Потом, когда светлое солнце взошло и туман утек, открылось, что не так уж высок обрыв и долина реки не так уж широка и вся замкнута лесом, и сказочный городок, как бы возникший из туманов, опустился на землю. Виднее стали где старые, где поновленные, в белых заплатах нового леса, стоячие городни. И костры городовой стены, крытые островерхими шеломами и узорною дранью, вросли в землю, как бы опустились, принизились. Но ощущение чуда, открывшегося на заре, так и осталось в нем.
Осклизаясь на влажной от ночной изморози, а кое-где еще и непротаявшей, твердой тропинке, он сбежал вниз, к реке, и напился из нее, кидая пригоршнями ледяную воду себе в лицо, и загляделся, засмотрелся опять, едва не позабыв о том, что его уже, верно, сожидают дома. И правда, по-над берегом доносило высокий голос Ульянии:
– Олфороме-е-ей!
Он единым махом взмыл на обрыв и тут в лучах утреннего солнца разом узрел и стоящий на курьих ножках смолисто-свежий, изжелта-белый сруб, и в стороне от него грудящихся под навесом коров, что уже тяжко мычали, подзывая доярок, и веселые избы, и розовые дымы из труб, и румяное со сна, улыбающееся лицо братика Пети, с отпечатавшимися на щеках следами соломенного ложа, взлохмаченного, только-только пробудившегося, и заботную Ульянию, и мужиков, и баб, что, крестясь и зевая, выползали, жмурясь, на яркое солнце, и заливистое ржание коня за огорожею, верхом на котором сидел сам Яков, старший оружничий, прискакавший из лесу на встречу своего господина.
Звонко и мелодично ударили в кованое било в городке, и тотчас стонущими ударами стали отозвалось било ближней церкви. Грудь переполняло безотчетною радостью – хотелось прыгать, скакать, что-то, стремглав и тотчас, начинать делать.
– Ау-у! – отозвался Варфоломей на голос Ульянии и вприпрыжку побежал к дому, из-за угла которого ему навстречу уже выходил Стефан с секирою в руке, по-мужицки закатавший рукава синей рубахи. Начинался день.
Глава 24
Вдоль долгих улиц Сарая мела метель. Ледяной снег вместе с замерзшей пылью больно сек лицо. Волга стала, и в город переправлялись по льду. Снег выбелил улицы. Мазанки Сарая стали как будто еще ниже. Верблюды жались к изгородям, мерзли. Мохнатые, в зимней шерсти, кони, ухватывая зубами пучки высокой травы вдоль заборов, прежде чем забрать ее в рот, фыркали, трясли мордами, стряхивая снег. Голубые минареты мечетей поседели от инея, поседели сады, поседели выложенные цветными изразцами дворцы ордынских вельмож. Холод был чужой, злой, пронизывающий насквозь, и страшно было видеть нищих, пробиравшихся вдоль заборов в худых опорках, а то и босиком по снегу, едва прикрыв тряпьем синее тело, и с надеждою взглядывающих на долгий обоз конных русичей, сытых, закутанных в шубы, в мохнатых шапках, в вязаных рукавицах и валенках, что подымались сейчас друг за другом от перевоза и, достигнув ровной дороги, со свистом и окриками переходили в рысь, уносясь на другой конец города, к русскому княжескому подворью.
Иван, как начали подыматься с Волги, откинул слюдяное окошко возка; резкий ветер тотчас ворвался внутрь – незнакомый, чужой, тревожный. Он немо смотрел на босоногих попрошаек, собак, лошадей и верблюдов, на глиняные дворы и жердевые плетни. Рука шевельнулась было подать милостыню и осталась недвижной. Каждый раз, едучи сюда, собирался весь внутренне, каждый раз, подъезжая к Сараю, замирал, твердел, стараясь вызвать в себе тот потаенный подъем сил душевных, от коего паче, чем от слов, зависело все: и успех в делах, и милость ханская, и судьба Руси, и даже собственная жизнь. Недавно в Орде по приказу Узбека убили стародубского князя Федора Иваныча за малую вину – недоданное серебро, как баяли, а паче – за неловкое слово, не вовремя сказанное. Слово, стоившее ему головы…
Полюбить, заставить себя полюбить! Хана, его двор, жен и вельмож… Не прикинуться, нет! Стать другом Узбека! Еще и еще раз, как бы тяжко ни было, понять его, войти в душу, самому ся уничтожить пред величием воли ордынской! До дна души, до предела сил! Только так! И тогда простится Ростов, и дастся Владимир и Дмитров с Галичем, мозолившие глаза вот уж который год!
Великое княжение владимирское должно быть великим до конца. Единым. С единой главой, единою волею. Его волею, Ивана Данилыча Калиты! И потому еще, и для того именно здесь, сейчас принизить, уничтожить себя до конца. Нет во мне гордости, нет и воли, все ты, великий хан, все твоя воля, паче солнца, паче жены и матери! Только так.
Вечером он уже объезжал вельмож ордынских. Льстил и дарил, прозрачно-искренне глядел в глаза, готовно смеялся, присаживался по-татарски на кошму, отведывал кумыс, вел речи о конях и соколиной охоте. Про дело свое вовсе не упоминал или только скользом, словно бы и не за тем приехал в Орду. Знал уже, что так лучше с ордынцами. И не важно, кто перед тобою: сам беглербег, угощающий тебя на золотой посуде, сидючи на бесценных хорасанских коврах, или простой торгаш ордынский, что сидит на пыльной кошме и пьет кумыс из медной чашки. Все одно с тем и другим сперва мех кумыса выпей да обо всем на свете перемолви, а после уж только о деле, с таким приехал к нему… Верно, и русичи единаки, дак близ того не узришь, что издалека видать! И они нас, поди, в одно считают!
На четвертый день великого князя владимирского принял сам Узбек. Хан, по случаю зимней стужи, переселился в свой кирпичный дворец, сложенный для него хорезмийскими мастерами. Сидел на золотом троне, закутанный в парчу. После недавней смерти любимого сына Тимура в черной бороде Узбека появились белые нити, две резкие морщины пролегли вдоль щек. Уже не восточный красавец с точеным, выписным лицом – усталый под бременем власти человек сидел на золотом престоле, в окружении своих четырех набеленных, словно куклы, неподвижных жен, в сонме придворных, среди чеканных курильниц, золота, шелков и парчи. Калита кланялся, по-татарски прижимая ладони к сердцу. Слуги носили дары. На беседу с ханом его позвали несколько дней спустя.
Теперь уже не было ни той пышности, ни того отстояния, когда хан – золотое божество на престоле. Узбек сидел на войлочном ковре, в лисьей шапке и простом разноцветном халате. Медные жаровни струили тепло, но хану все равно было холодно. Он заметно подрагивал, кутаясь в свой мелкостеганый, подбитый верблюжьей шерстью халат. Блюда, кожаные тарели с мясом, подносы с рыбою, буза и вино, дозволенное у мусульман ханефийского толку, мед и кумыс в узорных сосудах разных стран и различной формы были разложены и расставлены прямо на полу, и Калита, поклонившись хану, присел на край ковра, скрестив ноги по-татарски. Узбек усмехнулся надменно, ответил на поклон кивком головы. Подумав, произнес по-русски:
– Здрастуй!
По бокам ковра уселись два толмача; несколько приближенных вельмож, до того находившихся за спиной Узбека, придвинулись ближе.
Ханский покой был невелик и весь, кроме потолка, завешан гладкими ткаными или войлочными коврами. Окон не было, или их тоже закрывали ковры. Комната освещалась многочисленными мерцающими светильниками, точно церковь, так что можно было очень скоро позабыть, день теперь на дворе, вечер или утро.
Сейчас, внимательнее вглядевшись вблизи в усталое лицо хана, Иван похвалил сам себя за то, что сообразил при известии о смерти Тимура, сына Узбекова, послать тотчас в Сарай соболезнования с поминками. И в летописании владычном отмечено о скорби хана – чтущий да разумеет!
Там, за стенами, мела ледяная поземка. Было холодно. Калите не было холодно в теплом русском платье, но он за Узбека чувствовал, как холодно, как не греют жаровни, как надоели жены, не радуют золото и шелка… Пили горячий мед. Шла осторожная цветистая беседа; наконец один из вельмож прошептал что-то на ухо хану. (Иван догадывал что. Вельможе тому было дано, и дано преизлиха даже!) И Узбек, змеистым извивом бровей и чуть заметным склонением головы показав, что услышал и понял, вопросил Ивана (и, вопросив, поднял чело, расправил плечи, в глазах зажглось грозно, и весь он стал как проснувшийся барс: властелин полумира, великий, славный, кесарь, царь царей, повелитель Руси):
– Просишь Владимир?!
– Александр Василич помре, теперь мочно и совокупить волость ту!
– Каждому свою отчину! – бросил Узбек почти сердито.
– Володимер преже всегда был в волости великого княжения! – возразил Калита, преданно глядя на хана. – По ряду, по обычаю так, от дедов-прадедов наших!
Узбек покачал головой.
– А ярлыки зачем покупал? Мало тебе Ростова? Теперь просишь Галич и Дмитров?
Узбек усмехнулся и вдруг, круто сведя брови, вскипел, вскинулся с подушек, пронзительно вперивши взгляд в Калиту, молвил с угрозою:
– Я тебе велел добыть коназа Александра! Ты не исполнил того! Ныне коназ Александр вновь сидит во Пскове! Что ты сделал, князь?! Почто молчишь? Отвечай!
– Царь-батюшка! Дак ить немочно! Всё Гедимин проклятый! Литва подвела! – возразил Калита и поглядел на Узбека таким бестрепетно-прозрачным взором, что Узбек, за миг до того почти привставший с подушек, вновь лениво и недовольно откинул стан, уселся, поерзал, отводя глаза.
– Я и то уж спас от беды, – прибавил Калита, слегка опуская взор долу. – Свово епископа прошали плесковичи, совсем отделитися чтоб… Не попустил Господь!
– Епископ, епископ… – пробормотал Узбек, – колдун… Где митрополит?!
– Едет, царь-батюшка! – готовно отозвался Калита.
– Едет…
Узбек вновь сгорбился, четче прорезались глубокие морщины щек.
– Во Пскове и всегда сидели твои коромольники, царь-батюшка! Галицкий князь Федор наместничал, сынок еговый и братец Борис Дмитровский, оба из руки Михайлы Ярославича, покойного супротивника твоего! Дак теперь вот и князя Александра Михалыча приняли! И волость-то Тверская еще за им, нать бы ее Костянтину…



