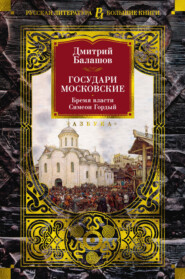скачать книгу бесплатно
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
Дмитрий Михайлович Балашов
Русская литература. Большие книги
«Государи Московские» – монументальный цикл романов, созданный писателем, филологом-русистом, фольклористом и историком Дмитрием Балашовым. Эта эпическая хроника, своего рода один грандиозный роман-эпопея, уместившийся в многотомное издание, охватывает период русской истории с 1263 до 1425 года и уже многие десятилетия не перестает поражать читателей глубиной, масштабностью, яркостью образов и мастерской стилизацией языка.
Вместе романы цикла образуют своего рода летопись, в которой исторические события жизни крупных княжеств разворачиваются год за годом, где отражены быт и нравы различных сословий, представлены судьбы, облик и характер сотен исторических деятелей.
В настоящий том вошли романы «Бремя власти», посвященный огромной по историческому масштабу борьбе московского князя Ивана Калиты за объединение Руси, и «Симеон Гордый», повествующий о судьбе и правлении старшего сына и наследника Ивана Калиты – князя Семена Ивановича.
Дмитрий Балашов
Государи Московские. Бремя власти. Симеон Гордый
Бремя власти
Взгляд с высоты
Судьбы людей существуют в истории, и историей определяются беды и радости, успехи и скорби любого из нас, каждой бренной и временной человечьей судьбы, для которой краткий миг ее земного бытия вмещает в себя безмерность мироздания, с чудесами далеких земель и алмазными россыпями бесчисленных горних миров в океане небесном.
Прежде чем снизойти с горней вышины к тверди земной и погрузить ум в кишение страстей злободневных, в суету сует, в судьбы, не ведающие вышней предначертанности своей, – ибо так, близко-поблизку, погодно, от 1328 и до 1341 года будем мы разглядывать ныне тревожную историю родимой земли, – обозрим с высоты свершившееся в мире к началу описанных событий, дабы понять, к чему и зачем были труды и подвиги ныне исчезнувших людей и какой смысл имело то, что содеивал московский князь Иван Калита в исходе первой половины сурового и скорбного четырнадцатого столетия.
Птица, что летит над землею, вытянув клюв и упорно махая крылами, видит леса и поля, видит курящие дымом деревни, и для нее невнятен тайный смысл человечьего бытия. Чьи кони движутся там, внизу, по тонким извивам дорог? Какою молвью толкуют люди? От мирных костров или ратных пожарищ восходят огнь и столбы горячего горького воздуха, опасного распростертым в аере крыльям? Птица не ведает истории, и человек, неспособный взлететь над землею, видит подчас много больше птицы, ибо он смотрит духовным взором и провидит неразличимое с высоты, но внятное разуму, видит не токмо огнь живой, но и свечение пламени духовного, видит взлеты и угасания того огня, коим живут и движутся судьбы народов.
И прежде всего, оглядев с высоты земное бытие, поразимся и ужаснемся тому, как исшаял и померк к началу четырнадцатого столетия духовный огнь Византии, как умалился, едва ли не до полного исчезновения своего, – светоч, еще недавно распростертый над тьмою тем языков и народов.
По землям славян от Адриатики и до Дуная, в Болгарии и Сербии, и до Карпатских гор, и за Карпатами, в Галиче и на Волыни, и по всей русской земле до самого моря Полуночного, и оттоле до Волги и до Оки, и под горами Кавказскими, в землях ясов, и в Дагестане – древнем Серире, – и за горами Кавказа в Грузии, в Великой и Малой Армении, и в Малой Азии – в Киликии, Фригии, Сирии, – и на склонах Ливана, и даже под властью султанов в Месопотамии и Египте, и в дальней Абиссинии, и по всей Греции – в Эпире, Фессалии и Пелопоннесе, во Фракии и Македонии – всюду простерлась православная вера. А последователи отверженного патриарха Нестория пронесли ее сквозь земли Ирана, Согдиану и Семиречье в Кашгарию и Турфан, и до монгольских степей, к берегам Селенги, и к далекому Чину – даже и туда, в Китай, досягнуло слово Христа. Таково было свечение духовного огня Византии в двенадцатом совсем еще недавнем столетии.
Но вот минули немногие десятки лет, и по всему Ближнему Востоку, от Нила и до Инда, словно меч гнева или губительный смерч, прокатилась гибель на православное христианство. Мусульмане захватили всю Ближнюю Азию. Погибли в страшной резне конца тринадцатого века христиане Сирии и Армении, Дамаска, Эдессы и Антиохии, Тира, Сидона, Газы и Акры. Пали древние церкви, основанные еще первыми пустынножителями и пророками. В Африке едва устояла одна Абиссиния, а в Малой Азии мусульманские султанаты турок, сельджуков и османов подступили к самым стенам древнего града Константина. Уже раздавлена и растоптана копытами чуждых завоевателей Армения, пленена Грузия и земля ясов-алан попала в плен иноверным. Уже и в Иране в 1295 году ильхан Газан принял ислам, и вскоре, в 1319 году, вырезаны несториане персидские. И в те же годы пала, с воцареньем Узбека в Орде, христианская вера у кочевников-монголов. Исчезли, растаяли к исходу тринадцатого столетия общины христиан в Китае, умалилось христианство в Турфане и Индии. А в самой Византии и в сопредельных землях створилось гибельное разномыслие. Бесконечные церковные споры сотрясают гибнущую Византию, и сами кесари великого города склонили слух к приятию унии с Римом. Лишь горсть монахов в горе Афонской еще блюдет истинное православие, в суровой аскезе добиваясь лицезрения света фаворского.
А великую некогда землю Руси поделили Литва и Орда, и уже под стены Пскова и Новгорода, уже на земли Галича и Волыни, уже к Смоленску и Твери дотягивают властные руки литовских князей, о коих полтора века назад и слыху не бывало на Руси Великой!
И долго ли простоит еще княженье владимирское, подвластное мусульманскому хану? И не угаснет ли последний отблеск византийской веры и там, в Залесской Руси, единственно оставшемся осколке размахнувшей некогда на тысячи поприщ киевской державы? А с ним, со светом этим, с отблеском былого огня, не угаснет ли, не обратит ли во снедь иноверцам и сама земля русичей, не исчезнет ли язык словенск в волнах иных народов? Ибо что иное, кроме веры, обрядов, отчих заветов родимой старины, способно совокупить и удержать народ в быстробегущем потоке времен? И, строго оглядевши с высоты, невозможно было бы не изречь, что да, исчезнет и растворится и смеркнет совсем свет православия и с ним вместе имя Руси Великой!
Еще тянет дымом пожара сожженной Твери, самого сильного града земли владимирской, а тверской князь Александр отсиживается сперва во Пскове (Плескове по-древнему), а оттоле бежит в Литву, под руку великого князя литовского Гедимина.
Малый прок Залесья: Москва с прилегающими немногими градами осталась неразоренной и необезлюженной после многолетней распри московских князей с тверскими. Малый прок, малый, ежели поглядеть с высоты, останок земли, малый и слабый, ибо не дерзают днесь ни на какую великую борьбу с соседями князья владимирские. И сам Иван Данилович Калита, брат покойного Юрия Московского, разделивший великое княжение владимирское с суздальским князем, не дерзает уже на ратные споры, послушно исполняя наказы хана, и Бог весть, удержит ли еще власть, вернее, тень власти в родимой земле!
А литовские полки, охапив уже всю землю Руси до Киева, рвутся дальше и дальше, дерзают спорить с ханом; и, огрызаясь, пустоша землю набегами, отступают, уходят татарские рати, отдавая Литве город за городом и волость за волостью. И, поглядев с высоты, кто бы не сказал в те поры, что недалек день, когда и последние волости русские исчезнут, подчиненные Литвою, и два великих соперника, Литва и Орда, столкнутся в последнем бою за обладание этой землею, обратить которую в католичество – в «веру латинскую» – уже и сейчас деятельно хлопочут легаты, епископы и кардиналы папского Рима?
Погубленная после убиенья Шевкалова в 1327 году Тверь, во главе со своим беглым князем, откачнет к Литве, Псков и Новгород тоже перейдут под руку великого князя литовского Гедимина, а ослабленная двадцатилетнею борьбою Москвы и Твери залесская земля угаснет, истает, обратившись в прохожее и проезжее пограничье меж сильными соседями, которые во взаимных походах окончательно истребят все живое и несхожее с ними, что еще уцелело здесь от великой, легендарной, невозвратимой киевской старины.
Вот что сказал бы тот, кто нелицеприятно обозрел с высоты русскую землю к тому часу и дню, когда московский князь Иван Калита вернулся из похода под Псков, откуда он выгонял, по приказу хана Узбека, беглого тверского князя Александра Михайловича. Вот что сказал бы горний мудрец; и мы сами, вновь перебрав и пересмотрев нелицеприятно и строго все сущее в мире и на Руси к 1328 году по Рождестве Христовом, что сами мы должны были бы изречь, не зная грядущей судьбы родимой земли? Ибо грядущего не ведает никто, а мудрецы дерзают лишь объяснять совершившееся в прошлом и о том, что должно произойти, судят по преждебывшему. Да, сказали бы мы в 1328 году, видна простому оку близкая гибель православия, на коем держалась не одна Византия, но и земли славян, но и Великая Русь. Да, этой духовной опоры своей мы вскоре будем лишены. Это был бы первый наш вывод и первое заключение при взгляде с высоты.
Да, невероятно усилилась Литва, выросла в грозную державу и продолжает расти, поглощая русские земли одну за другой. И уже теперь великий князь литовский Гедимин стал едва ли не сильнее повелителя Золотой Орды хана Узбека, сравнялся с польским королем и теснит орденских немцев, еще недавно безраздельно хозяйничавших в Прибалтике. Да, в Орде окончательно утвердилось мусульманство, и уже теперь смешно мечтать о союзе Руси со степью, обращении в христианство татар и скором одолении властных кочевников. Литва и Орда, Гедимин и Узбек – вот две истинные силы и два непримиримых противника на холмистых просторах Восточной Европы. Да, всё так! И это был бы второй нелицеприятный вывод при взгляде с горней высоты на землю русичей.
А в самой залесской земле, в пределах великого княжения владимирского, что увидим мы там, приглядевшись с высоты?
Увидим мы, что самое сильное княжество земли – Тверское, с городом Тверью, – разгромлено, и, значит, вся владимирская земля стала много слабее. Убит в Орде Михаил Тверской. Убит в Орде старшим сыном Михаила, Дмитрием Грозные Очи, противник его отца, московский князь Юрий Данилович. Казнен ханом Узбеком и сам Дмитрий Грозные Очи. Второй из четверых сыновей Михаила Тверского, Александр, получивший было, вослед отцу и брату, великое княжение, изгнан год назад из сожженной Твери, и на тверском княжении сидят сейчас младшие Михайловичи – Константин и юный Василий Кашинский. А великое княжение только частью досталось московскому князю Ивану, другая часть, с городом Владимиром, отошла князю суздальскому, Александру Васильевичу. И уже почти независимым стал Господин Великий Новгород, и совсем отпали от власти великих князей владимирских земли рязанская, брянская и смоленская. И значит, нет в Залесье единой непререкаемой власти, как в Литве или Орде, а то, что есть, рассечено нелюбием и враждою и не может противустати врагам как единая Русь… Да полно, сохранилось ли еще само понятие Руси Великой? Мыслят ли себя еще новгородцы или рязане единым народом с владимирцами, тверичами или смолянами? Или только в древних харатьях да в головах книгочеев-философов и осталась мечта о единой Великой Руси? Не узрит наше око с выси горней в 1328 году нужного единства Руси пред лицом Литвы с Ордою! А узрит только разброд и разор, и посему не инако возможем мы помыслить о грядущем земли, как со скорбью и с унынием, не чая уже спасения языку русскому. И это был бы третий и последний наш вывод при взгляде с высоты. Вывод о неизбежном конце и гибели русской земли.
И только одного не узрим мы с выси горней, ибо того и неможно узрети издалека: не узрим того, как думают и чувствуют, чего хотят и чему верят сами залесские русичи – наполненные волею к жизни и отнюдь не догадывающие о возможной и скорой гибели своей, – на что способны они в дерзанье своем, сколько скрытых сил, сколько надежд хранят в себе эта земля и этот язык! Ибо не может даже и самый великий спасти народ, уставший верить и жить, и тщетны были бы все усилия сильных мира сего, и не состоялась бы земля русичей, и угасла бы, как угасла вскоре Византия, ежели бы не явились в народе силы великие, и дерзость, и вера, наполнившие смыслом деяния князей и епископов и увенчавшие ратным успехом подвиги воевод.
И тут мы сойдем с высоты и начнем наш рассказ, уже не вздымаясь ввысь, а пристально внимая тому, что происходит на этой недавно наполовину сожженной татарским нашествием лесной и суровой земле.
Пролог
В холодных пробелах дымно клубящегося неба давно уже не вспыхивала небесная голубень. Сизые волглые лохмы, цеплявшие за верхушки дерев, тяжко и страшно влеклись над самой землею. И по меркнущему, призрачно-желтоватому свету в горних провалах туч чуялся близкий вечер.
Серая пелена небес моросила дождем. Лес застыл, кроткий под непрерывною капелью, роняя пожухлые, почернелые клочья своего убора. Лес знал, что это последняя влага перед близкой зимой, и потому стоял тихий и смиренный, не лез блеском листьев, не лопался почками, не острил встречу дождя тонкие иголки трав, а словно грустил понуро или засыпал, уже не впитывая стоявшие озерцами среди кочек лужицы ненужной ему воды. Ручей, что едва струился летом, огибая ржавые, поросшие осокою отмели, сейчас сердито ревел, обратясь в пенистый поток, и только один его голос врывался непрошено в осеннее безмолвие лесов.
Шуршание обложного дождя гасило все прочие звуки, и потому скорее по шевеленью раздвигаемых ветвей, чем по чавкающему зову шагов можно было понять, что в лесу кто-то есть. Обдирая плечами мокрую преграду кустов вдоль заросшей и заколодевшей тропинки, двигались трое: корова, женщина и ребенок.
Грубая старинная пословица молвит: пусти бабу в рай, она и корову за собой волокет. Рай не рай (очень даже не раем был дождик, зарядивший из утра да так и не кончавший, даже и гляду не было, что разъяснит!), но действительно вели корову, купленную или инако достанную, и вели явно к себе, ибо не так ведут животное продавать, дергая за вервие и уже заранее как бы отчуждаясь. Здесь, напротив, вели бережно и сами жались к корове, к теплу ее обширного чрева, приноравливая свои шаги к разлатой колеблющейся поступи вековечной крестьянской кормилицы. Женщина шла пригорбясь, изредка нашептывала слова древнего скотьего заговора, и вела бело-пеструю красулю на веревке за собой, а та покорно, покачивая рогатою большой головой, ступала за нею вслед, изредка взмахивая хвостом и слизывая с губ большим шершавым языком капли дождя. Шерсть на ней потемнела и лоснилась от стекающей влаги. Мальчик шел сзади, дабы подгонять корову, но он не столько подгонял, сколько сам старался не упасть. Поминутно спотыкаясь на ветках и корнях дерев, он то отставал, то вновь подходил к самому крупу коровы и очень хотел тогда ухватиться руками за коровий хвост и так идти за нею, но боялся это сделать и только изредка касался рукой мокрой и теплой коровьей шерсти с робким обожанием и благодарностью к доброму большому зверю.
Остановясь в очередной раз, женщина достала деревянную мису и, пристроив ее между ног, стала доить корову. Нацедив миску, поднялась и сперва протянула ее мальчику. Тот отпил немного и молча отдал матери. Она стала пить мелкими глотками, не спеша, и пила долго, но выпила тоже немного и вновь отдала мису мальчику. Оба и вдруг подумали о хлебе – хлеба не ели они уже очень давно, – но ни он, ни она не сказали ничего. Так, по очереди, допили они молоко, и мать первая, сделав усилие, встала, сказав:
– Поидемо. Ночь…
И мальчик тоже встал, закусив губы, и пошел опять сзади коровы, желая и не решаясь ухватиться за коровий хвост.
Ни по одежде – туго замотанному темному плату и долгому платью женщины, ни по ее мокрому, с мужского плеча, зипуну, ни по долгой рубахе и латаной свите мальчика в липовых лаптишках нельзя было сказать, кто они и даже – какой поры. Века неслышно текли над ними, сотни годов, и в любом из протекших столетий, после пожаров, недородов, моровых поветрий и войн, когда появлялись так вот бредущие по дорогам бабы с детями, с коровами в поводу, значило это, что не угасла еще и вновь и вновь возрождается жизнь на земле.
Сгущались сумерки, и упорный мелкий дождь бормотал все сильней. Мокрые ветви хлестали женщину по лицу. Мальчик часто спотыкался, но не плакал. Раз, остановясь, они прислушались и сквозь шум ручья в чаще расслышали далекие редкие удары секиры.
– Дедушко наш! – сказала женщина севшим от усталости сиплым голосом. – Дедушко наш дровы рубит!
Осторожные удары едва-едва доносились сквозь сплошной, все покрывающий шорох дождя.
– Это наш тятя, – сказал мальчик, – наш тятя, твой и мой!
И женщина, оглянув на сына, не захотела или не посмела возразить. Муж ее, сын старика и отец мальчика, был убит, и теперь без старика свекра ей бы и совсем пропасть.
Она окликнула мальчика, сказав что-то по-мерянски, он промолчал, и в тишине только капли дождя шуршали и шуршали, опадая с ветвей, да, чавкая, ступала корова, и наконец ответил ей по-русски, с детским упорством, схожим с упорством дождя. Женщина, пробормотав что-то, поправила волосы под платком, засунув мокрую прядь под сбившийся повойник, и снова они шли и шли в сгущающихся сумерках и коровий хвост однообразно ударял по мокрым кострецам. Женщина снова сказала что-то по-мерянски, но мальчик упрямо отозвался по-русски вновь, и, вздохнув, побежденная упрямством сына, мать сама перешла на русскую молвь.
Рогатая голова коровы и темный женский платок еще долго мелькали в сумерках среди мокрых кустов. Сердито грохотал вздувшийся поток, и было страшно представить, что им еще придет переправлять вброд через эту ревущую воду, по скользким камням и предательскому бурелому, завалившему русло ручья. Но пока они будут гнать корову (вновь и опять, вновь и опять!), пока будет молоко для детей, будущих пахарей и воинов, дотоле пребудут города и храмы, гордая удаль воевод и книжная молвь, многоразличные науки, художества и ремесла, дотоле пребудет страна и все сущее в ней.
…Она все еще ведет корову. В рай – не в рай. Не стала раем для нас и поныне родная земля. Где? Когда? В какие – седые или недавние – годы?
Где-то в России. На Руси Великой. В веках…
Часть первая
Зодчество князя Ивана
Глава 1
Иван прислушался, безотчетно считая про себя удары медного языка. Звон колокола был жидок, и что-то жидкое, нетвердое было во всем, что остолпляло его теперь. Не вставая с колен, тяжело свесив голову, отягощенную густою волной заплетенных в косицу волос и густою русою бородою с ранними промельками заботной седины, в той же позе, в коей творил он молитву перед «Спасом», Иван Данилыч, московский властитель, господин Великого Нова Города, великий князь владимирский, глава Руси и подручник ордынского хана, задумался.
Да, конечно, волю цесаря Узбека он не исполнил! Не мог исполнить, а вернее сказать (самому себе, стоя днесь на молитве, и сказать мочно!) не захотел. Рати стояли под Опочкой. Нать было громить Плесков, слать полки московлян на плесковские, зело твердые, из дикого камени кладенные стены, стойно дяде Андрею или покойному брату Юрию зорить Русь, которая того не простила б великому князю владимирскому до гроба лет…
Был март. (Дотянули до марта! Причем тянули все, и он, Иван Калита, менее всех!) Был март, и снег рыхлел, начинал проваливать под тяжелыми копытами окольчуженной конницы. С тем и было посылано в Орду: пути-де непроходны зело, поимать тверского князя не сумели, но и с тем воля царева исполнена, поелику Александр Михалыч от великия нужи и угрозы ратныя ушел из Плескова в Литву.
И серебро посылано на поминках. Много серебра. И скора, и сукна, и мед, и кони, и красные терские соколы – всего преизлиха. Самому цесарю, женам и вельможам его, коих он, Иван, должен был помнить всех полично и поименно (и то такожде помнить, кому чего и сколь надобно дать!). И теперь одного б не было: не было бы извета в Орду от ворогов тайных! Отселе, из Руси. Из тоя же Твери. Да почему только из Твери? И с Москвы напишут! Помилуй и спаси, Господи, раба твоего!
А только вот… с начала, с самого начала похода не думал он, да, не думал, что так обернет все и с князем Александром, и со плесковичи. Не гадал… Сейчас даже и сказать можно, когда, в пору какую и в который миг озарило его истиною.
В тот день он, из утра не слезавши с седла, попал в затор на дороге. Повозка накренилась, угрожая обрушить под угор груду стянутого вервием добра. Взъерошенные кони дуром и врозь дергали постромки, медленно, с натугою, проворачивалось блестящее, в кованом ободе, колесо, вылезая из снежной каши, и по натуге колеса, по дрожи конской, по сосредоточенным лицам воевод, подскакавших обочь, учуял: послать на приступ – может, и пойдут, но не посылать – все вздохнут с радостью. Не послал. Вздохнули. Угадал верно. Это вот колесо, и растерянные лица возничих, мокрые, в испарине, расстегнутые овчинные зипуны, растерянные взгляды, когда узрели князя своего – не готовно-ражие, а растерянно-смятенные, словно не снег виной, а застал за чем нехорошим…
Он подъехал верхом, солнце грело спину и шею. Март исходил последними днями. В мокром снегу, растянувши на сорок верст, копошились обозы, возки и сани, пешая и конная рать, и, как игрушечная, стояла невдалеке крепостца, светлый дым курился-кудрявился над нею: топили печи либо грели смолу ради возможного ратного приступу. Оттуда, с заборол, изредка пролетала стрела; далекий крик дрожал в воздухе; комонные москвичи оскакивали крепость по-за рвами, целились, придержав коней; спустив тетиву, срывались опять в скок, уходя от ответного псковского гостинца.
В путанице дорог нелепо растянутые полки подходили и подходили к Опочке (может, и лепо, как там воеводы решали? Молодой Василий Протасьич знает лучше его!). Разбрасывая тяжелые жемчужные градины снега, подскакал тверской князь Константин с боярами, меж которых кинулось в очи лицо старшего Акинфича – Ивана.
– Вота как?! Стало, не ушел с Александром в Плесков? Альбо оттоле – сюда?!
Когда-то, четверть века тому назад, отец Ивана Акинфича, Акинф Великий, едва не захватил Переяславля, где сидел в ту пору Иван Калита, тогда еще молодой растерянный княжич, ожидавший скорого пленения и взятия града. Московский воевода Родион Несторыч вовремя подоспел с полком. Нежданным ударом разбил Акинфичей, самого Акинфа Великого сразил в поединке и, вздев голову убитого на копье, поднес ему, Ивану, в назнаменование победы. С тех пор, все эти долгие годы, сыновья Акинфа враждуют с Москвой и после Шевкалова разоренья должны были оба уйти с Александром… Так что же, значит, сносят они между собою? Значит, тайное согласие единит беглого тверского князя с его братьями, выступившими по зову Калиты в поход противу старшего брата? Да не с тем ли и прибыл Акинфич, дабы нежданным двойным ударом, оттоле и отселе, покончить с ним, Калитой?!
Бояре что-то почтительно баяли о близкой ростепели, о снегах, неуверенных конскому копыту, – не посести бы тута с обозами! Румянолицый, высоконький Константин, глядя на него расширенными глазами, кивал-поддакивал. Иван, глядючи на него, всегда вспоминал твердый носик племянницы Сони, Софьи Юрьевны, полагая, что московская жена удержит тверского князя от всякого – ратного, иного ли – нелюбия к нему, Ивану. Тверские князья были в нынешнем походе оба. В обозе везли юного Василия Михалыча, не очень еще дозволяя мальчику скакать на коне впереди полков. Да ведь он, Калита, сам же и настоял на том, чтобы в поимку за Александром Тверским выступила «вся земля», то есть и младшие братья беглого князя тоже!
И тут, только тут и подумал! Только тут и испугался смертно, до холодного поту, до ужаса! Представил вдову князя Михайлы, убиенного, святого, как толкуют решительно все, – высокую, иконописно строгую, ничего не забывшую и не простившую; и как, с каким ликом, с какими наказами снаряжала она младших сыновей всугон за старшим там, у себя, в горелой, наспех отстроенной Твери, в помочь кому? Брату убийцы мужа (ибо покойного Юрия все в Твери считали главным и даже единственным погубителем Михаила Святого), и мало что брату убийцы! Самого-то его, Ивана, не кем иным считают в Твери, как убийцей Дмитрия Грозные Очи, хоть и без него казнил Узбек старшего сына Михаилова, – все равно! И почему бы сейчас Константину не зарубить нежданно ворога своего, как зарубил в Орде Дмитрий Юрия: саблей, в мах… И все окончит разом. И останется только красная лужа крови, медленно съедающая истоптанный копытами снег… Перепал. Забоялся. Забоялся так, что возжаждал скорее оглянуть: близко ли свои кмети? Да нет, Константин никогда на такое ся не решит! Александр – тот, что сейчас сидит за твердыми стенами Плескова, – тот бы, пожалуй, и возмог… Или уж, чести ради, не похотел! (Дак и того обидней!)
Князь Александр леповит, красовит ликом, статью – что сокол, прямой князь! А горд – горд паче меры! Как он его ненавидел порою! Вот и здесь, и днесь, на молитве стоючи, воспомня – не вздохнуть! Как в дыму! Главный ворог он! Он – укор, и язва, и поношение ему, Ивану, да что – всему дому московскому!
Грамоту прислал из Плескова «всем князьям, женущим по нем и хотящим его пленити». Иван ту грамоту и поднесь помнит наизусть: «Мне убо должно есть со всяким терпением и любовью за всех страдати, нежели отмщати лукавствующим и крамолящим на меня: ничто же убо есть житие земное, все убо исчезаем и в небытие отходим, и воздано будет от Господа коемуждо по делам его. Вам же лепо было другу за друга и брату за брата стояти, а не выдавати татарам братью свою, но противятися на них за един и стати всем вкупе за Русскую землю и за православное христианство! Вы же супротивное творите, и татар наводите на христиан, и братию свою продаете безбожным татарам!»
Если бы он сам мог сказать эти слова! Не сможет. Никогда. Побывав в Орде, понял, что никогда. Разве – Узбек умрет… Да и то: что изменит смерть этого самовлюбленного и мнительного деспота! Когда-то он понимал брата Юрия. Теперь начал понимать покойного Михайлу Тверского. Нельзя! И он будет знать, что нельзя, а Александр Михалыч не хочет и не будет этого знать, и Русь будет любить Александра, а не его, Калиту. Уже и поныне умную бережливость его зовут скупостью. О, он не скуп там, где надобно! На каменные церкви, на монастырь во граде брошено излиха, и все ради единого слова митрополичьего (а Феогност уехал в Литву и глаз не кажет – неужто все зря?).
Или послать грамоту тверского князя в Орду?! Нет, пущай полежит. Не сейчас. Не надо сейчас…
И вот главный враг. Александр Тверской. За то, что смел, за то, что безрассуден. За то, что сын великого отца. За то, что брата его старейшего, Дмитрия, он, Калита, и в самом деле помог уморить в Орде…
И подумалось в те поры: по чести сказать, и суздальскому князю, Александру Василичу, почто так уж заботить себя поимкою тверского князя? Тягался с ним, Калитою, о великом столе. Получил Поволжье и Владимир. Сейчас, слышно, строит свой Нижний, ладит туда перевести стол из Суздаля и, поди, больше всего боится, как бы московский великий князь не наложил руку на Нижний Новгород!
Он, Иван, тогда все еще надеялся. Прехитрое, как казалось самому, послание сочинил – на благородство Александра надея была да еще на страх татарский: «Аще не приведем в Орду князя Александра Михалыча, вси от царя Азбяка отечества своего лишены будем и смерти преданы и землю Русскую пусту сотворим». А самому Александру тогда же с владыкой Моисеем и Авраамом, тысяцким новогородским, послал: «Царь Азбяк всем нам повелел искати тебя и прислати к себе в Орду. Поиди убо к нему сам, своею волею, да же не привлечеши ярости его на всех нас! Удобно бо тебе есть за всех пострадати, нежели нам всем тебя ради пропасть и пусту всю землю створити».
Лукавил. Знал он Узбека, как себя самого! Понимал, что Узбек трус, получит серебро и утихнет и за то, что не поиман Александр, не накажет уже никого. Была, однако, надея: Русь… обчая беда… отвести… Не то время! И никого не обмануло клятое послание. Плесковичи решительно воспротивились: «Не езди, княже, все за тя главы своя положим!» Да и новгородцы не ревновали о сече, ни тверичи, ни суздальский князь… И вот – и всё! Рушилось. И понял это в тот миг, когда, испугавши его, Константин отбыл, и продолжалось тяжелое вращение в сырой снежной каше кованого колеса, а растерянные рожи молодших оборачивались от него к застрявшему возу, и пар шел от тел, от лиц, от расстегнутых мохнатых зипунов… Бросилась в очи чья-то зеленая рукавица на снегу, яркая, как березовый лист, непонятно почему в точности похожая на его собственную (и почтительно тут же поданная Ивану стремянным). Оказалось – уронил, не заметив, и в том было что-то, унизившее его. И в том было паки униженье, что побоялся спросить про Акинфича, а слухачи донесли вечером: верно, оттоле! Прискакал с супротивныя стороны, и сносят между собою. Вот и понимай! И приступ к Плескову без стеноломов, без пороков камнеметных… Даже и он, Иван, понимал, что отобьют, с соромом отобьют их плесковичи! А суздальцы дадут московитам пойти напереди и не поддержат. Поддержат ли новогородцы? Ой ли! И что же тогда? И чьей головой покупати будет трудный мир с ханом: Александровой али его, Калиты, главою?
Решение пришло к нему ночью – спасение! И уже не спал до утра, и уже на рано-ранней заре ринул, аки агнец в скорби, ко отцу небесному прибегая: Феогност! Пасть в ноги присланному из Царьграда греку, просить, молить: да своею волею – волею нового митрополита русского – пристрожит, прикажет плесковичам! Умолил. Феогност наложил проклятие на плесковичей. Те и еще поупирались, но в конце концов пред церковною властию сдались. Александр ушел в Литву…
Разумеется, уйти ему дали без препоны. И проклятие (хоть и супруга, и дружины немалое число, и казна княжеская остались во Плескове) тотчас было снято с города, и все сошли в мир и любовь. А он… он сел за тяжкое послание хану Узбеку. При поминках. При серебре новгородском, что иначе осело бы в его великокняжеской казне. И как спешно, как резво, выдирая возы и сани из провалов и водомоин в рыхлых весенних путях, из снежной каши в самом деле развезшихся дорог, незаботно оставляя тяжелый припас в новгородских рядках до сухого летнего пути, шли, и шли, и шли, торопливо откатывая домовь, домовь, домовь! К жонкам, в дымные избы. Ладить упряжь и снасть, пахать, сеять. И уменьшалась, растекаясь, рать, ручейками уходя в налитые солнцем леса, в синюю даль дорог. Уходили суздальцы, уходил владимирский полк, нынче пришедший под воеводством суздальского князя (не всё и не вдруг выдала ему Орда!). Уходили, откалывались тверичи, шли, приметно избирая иные от московитов дороги, и таяло, уменьшалось войско великого князя. А лица у всех радостные, весенние – никто не хотел ратиться в этой войне!
Вот сейчас он выйдет из полутьмы церковной. Будут двор, нищие, что ждут его, великокняжеской, неукоснительной милостыни, храмоздательство, затеянное ради нового греческого митрополита Феогноста, бояре с делами, дьяки с грамотами и старший сын Симеон, такой еще мальчик, столь еще беззащитный пред грозным величием власти!
Иван поднимает лик горе, и долго глядит на большого «Спаса» московской работы, и видит вдруг, что лик Спаса суров и жесток, и пронзителен зраком, и морщины округ широко разверстых глаз и около рта Спасителя тонки и горьки. С кого писал образ сей московит-иконописец? Чей зрак, чью густоту волос, чью жестокую сеть морщин держал он в мысленном взоре своем? Иван редко гляделся в полированное серебро зеркала и забывал порою о печатях времени на лице своем. Но сейчас постиг, припомнил и ужаснулся: лик Спаса на иконе не являет ли тайная тайных его, княжого лица? Понимал ли его иконописец? Провидел ли умным взором или сам для себя неожиданно измыслил такое? Или жестокое столь вкоренилось нынче в московском дому, что и писец иконный, мысля о Спасе, не иначе видит горнего учителя нашего, Иисуса Христа?
«Господи! К тебе прибегаю! О земле своей пекусь я в жестоце и хладе сердца своего! Повиждь и внемли нижайшему рабу своему!»
Он рывком встает с колен. Осеняет себя последний раз крестным знамением. А земля – вот она! Курящие паром поля, леса и деревни, муравьиная работа мужиков и баб… И неостановимое, как время, возрождение тверской силы.
Глава 2
За порогом церкви его обняла и разом успокоила сверкающая свежесть мая, лезущая отовсюду трава, рудосерые просыхающие бревна, и нечаянные березки по-за теремами в зеленом дыму, и заречный простор лугов и красных боров по-за верхами стен, и легкий – после ладанного дыма – ненасытимый весенний дух с той, луговой стороны.
Стража раздалась посторонь. Он ступил с крыльца и пошел, строго утупив очи, не хотя видеть выставленного напоказ и немо, а то и с легким жалобным ропотом протянутого к нему человечьего уродства. Все же пришлось придержать шаг и, раскрыв калиту на поясе, достать горсть серебра, которое, однако, не стал нынче сам раздавать нищим, а передал постельничему, примолвил негромко:
– С рассмотрением!
И тот, с полуслова поняв великого князя, приотстав, начал обходить, расспрашивая и оделяя, нищую братию. «Только на молитве и оставят в покое!» – подумал Иван, уже не радуя солнечному дню, и убыстрил шаги. Впрочем, от домовой церкви до крыльца теремов путь был недолгий.
От глыб камня, привезенного по зиме санным путем и сваленного в высокие кучи прямо на снег, тянуло погребным, кладбищенским холодом. Земля округ куч была еще сырая: видно, недотаял заваленный камнем лед там, внутри. Камень ломали еще с осени и возили на Москву с Филипьева поста до Пасхи – доколе стоял лед и держали пути, – загородив и заставив камнем едва не пол-Кремника. Резко чернели невдали, под невысоким утренним солнцем, рвы начатой церкви Ивана Лествичника. «Послезавтра закладка храма!» – напомнил себе Иван, поглядев в тот конец. Послезавтра, двадцать первого мая, был день памяти кесаря византийского Константина и его матери Елены – основателей Царьграда, Второго Рима. День этот для закладки Иван выбрал сугубо и со смыслом. Иван Лествичник соименный Ивану святой, а Еленою зовут его супругу. Все было со значением, и хоть въяве слова о Третьем Риме – Москве и не были сказаны, но – чтущий да разумеет! Выбор имен и освященного дня говорил о многом, и ученому греку Феогносту то будет зело явственно!
Новый митрополит, спасший его под Псковом, был еще не стар, ясен зраком, велегласен и деятелен. Под смуглотою южного загара просвечивал здоровый румянец, в движеньях являлись твердость и быстрота. Все говорило о нраве решительном и самоуправном, даже самовластном. Было достаточно внятно, что послали его неспроста, а сугубо вопреки и вперекор московскому хотению поставить своего преемника Петру, Феодора, отвергнутого цареградской патриархией. И в этой решительности патриаршей были свои язва и заушение. Мнилось прежде, при Петре еще, возможет и в Орде одолеть христианская вера русская. Не одолела. Не на том ли сломался и сам Михайла Тверской? Не оттого ли так и с Царьградом ныне круто содеялось? Словно с воцареньем в Орде Узбека поменела, умалилась лесная Владимирская Русь! Словно уже и не с кем, и не с чем считаться кесарям и патриархам византийским на здешней земле! А может быть, и еще того хуже! О чем и думать соромно. В Цареграде рать без перерыву, внук встал на деда. Андроник Третий на Андроника Второго. Византийские кесари ищут теперь помочи у франков да фрягов, сносят с римскими папами… Не в угоду ли католикам назначен на Русь Феогност? Тогда все даром и все впусте!
При встрече новый митрополит, посетив гробницу Петра и бегло озрев Кремник, посетовал на скудость града Москвы. Свысока оглядев рубленые терема клети и церкви изрек мимоходом:
– Прилепо стольному граду имати храмы из камени созиждены!
Рек – и как окатило стыдом. Иван бросил тогда почитай все, что имел, на каменное храмоздательство, дабы заносчивый грек внял и постиг, воротясь на Москву, что не слаб и не жалок перед ним властитель Владимирской Руси. (Хоть и то примолвить надобно, что не от великой силы заманивает он к себе митрополита русского. Уедет Феогност в Литву, к Гедимину, и – всему конец: Москве, великому княжению, а может, и самой русской земле!)
Как долго покойный Петр молил его создати храм Успения Богоматери и как долго собирался он, как медлил исполнить волю Петра! И сколь своего, церковного добра дал Петр на создание храма! А теперь? Петр был свой и добрый. И он, Иван, капризничал с ним, как дитя пред родителем. И ведь нет в нем ныне нелюбия к Феогносту, в самом деле нет! Поначалу осерчал, – когда оттуда, из Цареграда, осадили его, словно норовистого жеребца, отвергнув архимандрита Феодора. Но лишь только некие из ближних стали недовольничать новым митрополитом, он, Иван, первым окоротил хулителей:
– Всякая духовная власть от Бога!
Они все не понимают (и Михайло Тверской не понимал!), что надо принимать то, что есть, и из этого делать потребное. «То, что есть» значило: не идти войной на Псков, ежели этого никто не хотел; не лезть на рожон с татарами, всегда и во всем внешне угождая Узбеку. И тут, в делах церковных, важнейших, чем прочие, приноравливать к присланному гречину, а не спорить противу судьбы. Так вот, заметив, что тому нелюбы древяные храмы Москвы (грек – приучен к камению многоценному!), все силы и бросил на создание белокаменной церковной лепоты… И тут же укорил себя, воспомня прежние уговоры Петровы. Как порою с близкими себе менее бережны бываем, а нельзя так! Увы, и он в этом не лучше прочих! Стал ли бы он при Петре созидать разом, как замыслил ныне, четыре каменных храма на Москве? Так что ж, выходит, что и все в жизни требует грозы али понуждения? Доброта излиха не то же ли зло для лукавого и леностного раба Божия? Почто у добрых родителей почасту плохие чада, нерадивые и неумелые к труду? Нужно, ох нужно жезлом железным учить и направлять всякого смертного: да не оскудеет и не ослабнет свершая труды свои! И для него, Ивана, Феогност ныне – жезл железный. И за то, что скупился тогда, при Петре, излиха, за то он нынче давно уже не считает на церковное дело ни серебра, ни сил, ни припаса снедного…
И пусть не насмешничают над его малою Москвой! Он отселева не уйдет! Не Юрий! Ни в Переяславль, ни в Володимир, ни в Новгород Великий! Здесь будет стольный град Руси! На этих холмах! Не мог святой Петр так обмануть себя в чаяньях своих, а он предрек, умирая, величие граду сему! А Петр – святой. И надобно паки и паки хлопотать о канонизации блаженного! Паки и паки надо слать патриарху о сем деле! И пусть новый митрополит хлопочет такожде о признании святости покойного! Даром, что ли, он, Калита, строит на Москве каменные храмы? Верно, мал его город. И перед Тверью мал, и перед Новгородом, а уж о Цареграде и речи нет! Но вот: Петр видел Цареград, а не почел ничтожным град Московский!
С этими мыслями, освежив себя гневною обидой, Иван ступил в сени княжого терема. Тотчас с лавки, с поклонами, поднялись два боярина. Один из них, Мина, был посылаем им в Ростов, в помочь Василию Кочеве. Ростовское серебро собиралось туго, и Иван требовал решительных мер. Завидя Мину, похотел было отправить его еще до трапезы, но сдержал себя. Трапезовать великого князя ждали архимандрит Данилова монастыря, четверо думных бояринов и посол иноземный из кесарския земли, допущенный к трапезе по совету старого Бяконта. Иван давно уже научил себя трапезовать с важными гостями, хотя порой и долило: хотелось простоты, уединения. В уединении лучше думалось и вкушалось способнее. Не надобно было брать серебряную двоезубую вилку, не надобно было и ждать, когда стольник с поклоном подаст новое блюдо… Ладно, все одно надобно отпустить гостя! Немец просил грамоту на проезд торговых гостей в Орду. Бяконт с Сорокоумом уже дознали, какие товары надобны в немецкой земле, и предлагали самим продавать потребное, а в Орду гостей зарубежных не слишком пускать. То было разумно, и следовало только не отпугнуть посла, не то уйдет в Тверь, а с ним и немецкие сукна, и добрый уклад, и оружие, что привозят из ихних земель торговые гости.
Немец был невысок, но плотен. Поклонился с достоинством, не роняя себя, по-журавлиному отступив назад и взмахнувши плоскою немецкой шапкой с пером заморским. Иван сел. Уставно, по чину, уселись бояре. Слуги внесли горячую мясную уху, разлили мед. Иван, по своему обычаю, потянулся сперва к блюду с мочеными яблоками. Немец, не трогая вилки, орудовал ножом, рвал и грыз мясо, крупно глотая. Свои бояре не отставали от иноземного гостя, и за столом на время установилась сосредоточенная тишина. Иван вкушал мало, больше наблюдал за гостем. Тот наконец откинулся на лавке (уже подавали кашу и кисель), многословно благодарствуя великого князя владимирского. «Сейчас начнет обиняком просить пути до Сарая!» – подумал Иван, утверждаясь все более в том, что Бяконт прав: пущай торгует с Москвою! Видно, и тверичи не очень им потворствуют, да нынче без воли великого князя и Тверь проезда в Орду не решит!
Немцу отвечали свои бояре. Постепенно завязался разговор. Слегка захмелевший немец вздумал поучать русичей (он добре знал русскую молвь и почти не ошибался в словах). Бояре горячились. Иван слушал с любопытством. Послы иноземные были еще внове для него, и он тщился понять, что же самое главное в этом зарубежном госте? Что кроется за шелухою слов, за цветистыми и высокоумными славословиями великому русскому князю? Гордость он уже понял. Понял и скрытое небрежение и небрежению тому усмехнулся про себя, не дрогнув и не изменясь лицом. Прав Бяконт, прав! На Волгу пускать их не след!
Посол меж тем расхваливал ихние немецкие товары, высокопарно изрекал о законе имперском, о том, что только сильный и владетельный повелитель (тут он поклонился Ивану) возможет заставить всех горожан и черных людей хорошо работать и не лениться («Добро роботати и не ленити себя», – сказал он), такоже, как это у них, в земле немецкой.
О том, что творилось в немецкой земле, бояре были, однако, наслышаны хорошо и почали возражать гостю. Иван мягко, мановением руки, утишил поднявшуюся было прю и, впервые разомкнув уста, молвил послу:
– Со скорбью можем сказать, что иноземный гость изрек правду. В наших землях не всюду спокойно, и проезд купцам зело труден там, где кончается волость Московская! А посему лепше вам товары свои обменивать на Москве!
Немец растерянно уставился на Ивана, с опозданием поняв, что разговор поворотил в сторону, выгодную русичам, а не ему. Но великий князь уже склонил голову, отпуская иноземца, и тому пришлось, опять с поклонами и хвалами, покинуть палату.
Иван, усмехнувшись одними глазами, оборотил лицо к сердито взъерошенному Сорокоуму:
– Мыслишь, не прав немец сей?
Старый боярин тотчас взорвался опять, пристукнув посохом, словно все еще споря с немцем, и сердито глядя чуть мимо Ивановых внимательных глаз:
– Заставить хорошо работать плохого работника нельзя! Ты мастера удоволь! Доброму мастеру дай леготу для работы!
– Тогда и плохой потянет учитися мастерству! – спокойно поддержал Сорокоума доныне молчавший Василий Протасьич. Сорокоум кинул глазами в сторону молодого тысяцкого, задышался, мотнул головой, неотступно примолвил: