
Полная версия:
Самая страшная книга 2020
Перед глазами возник образ отворившего ворота мужичка. В телогрейке и ушанке, с плоским непроницаемым лицом, он молча впустил визитеров за частокол. Алла не могла отделаться от подозрения, что их ждали, что отшельники откуда-то прознали об их приезде.
Поселок был крошечным. Избы, вросшие по подоконники в землю, рядом новые сараи и казенного вида постройки без окон. Всего дюжина зданий. Из полутьмы наблюдали люди. Бородатые мужчины, бледные женщины в платках.
Алла сказала, что больна раком и ищет встречи с Волковым. Мужичок (немой, что ли?) жестом пригласил в барак. Там тоже горели свечи. Грубо сколоченные ящики оказались койками, устеленными соломой. Изможденная женщина принесла травяной отвар в алюминиевых чашках.
– Надо, – сказала она. – Пейте.
Они подчинились, морщась, глотали горькое пойло. Мужичок снял ушанку, под ней была лыжная шапочка. Нет! Мужичок поднял огарок, и Алла поняла: у члена волковского культа выше бровей отсутствует кожа. С него сняли скальп. За что?
«Мало ли за что? Подумал о чем грешном. Или лишний кусок хлеба умыкнул».
Блеклые глаза ощупывали гостей. Солома шуршала в ящиках-койках. Стало тепло. Жарко. Силуэты сектантов двоились.
– Ах вы суки, – Шорин выронил чашку, она покатилась по бревенчатому полу, дребезжа. Шорин шагнул к волковцам, ноги его подкосились, он повалился плашмя. Тьма наползала со всех сторон, нашпиговывала череп ватой.
«Нас опоили, – подумала Алла. – Раздели меня, обездвижили. Зачем?»
«Затем, – сказал голос, – что они психи и командует ими садистка, распявшая собственного сына».
Алла забилась на столбе пуще прежнего. У бочки с камнями поблескивала в свете огарков кочерга, но было проще укусить себя за нос, чем дотянуться до нее.
– Сергей! – завопила она. – Сергей, я тут!
«А вдруг»…
Нет, не думай об этом!
«Вдруг Шорин мертв, и ты – следующая?»
Баня была сложена из чурбаков, с двухскатной крышей в лапу. Под потолком – бойницы, отдушины для дыма. Но неба не разглядеть. Алла отлепила ягодицы от настила. Встала на колени, медленно выпрямилась. Опора гладкая, а руки сведены вместе. Перетереть путы невозможно.
Поток мыслей оборвал лязг замка. Дверь, протяжно заскрипев, отворилась. В баню вошла коренастая женщина. Кривоногая, грузная, в шерстяной юбке и засаленном тулупе, седые кудри острижены под горшок. У Аллы не возникло сомнений, кто перед ней.
Мать Соломона Волкова приблизилась. В свете огарков властное лицо отливало мертвенной желтизной. Выпученные глаза пылали. Одутловатые щеки и дряблый подбородок поросли светлым, до омерзения нежным пушком.
Взор Аллы скользнул на заткнутую за пояс Волковой рукоять. Хлыст с тремя хвостами.
Оксана Волкова была монстром. Злобным и беспощадным. А взгляд ее, ошпаривший Аллу, был взглядом концлагерной надзирательницы.
– Развяжите меня, – потребовала пленница. Чудом, не иначе, ей удавалось заставить свой голос звучать настойчиво и почти грозно. – А то у вас будут проблемы.
Губы Волковой разъехались в сардонической ухмылке, демонстрируя пеньки сгнивших зубов.
– Да ну?
– В моем кармане лежит удостоверение. Я журналист, а вы препятствуете журналистской деятельности. Мое начальство знает, где я нахожусь. В данный момент сюда направляется милицейский вертолет.
Слова не впечатлили Волкову.
– Мерзость перед Господом – уста лживые.
– Выпустите меня! – Алла брызнула слюной.
И увидела с ужасом, что Волкова вынимает из-за пояса плеть. Это не укладывалось в голове. Чушь, блеф. Никто не мог ударить ее, тридцатилетнюю женщину. Никто!
– Ты – больна, девочка, – мягкий тон заворожил. Жуткие, увенчанные узлами отростки болтались в воздухе. – Но у нас есть лекарство.
Плеть стегнула наотмашь. Изумление и гнев были сильнее боли. Но когда хвосты повторно прошлись через груди, ярость уступила место жалкому визгу. Словно когти полоснули Аллу, словно кипяток обварил тело. Один из узлов хлестнул по ореолу. Показалось, что в сосок вогнали иглу.
Садистка отступила, наслаждаясь результатом. На Аллиной коже вспухали багровые борозды.
– Помогите! – завыла Алла, глотая слезы.
– Никто не услышит тебя, – сказала Волкова тихо, – кроме Бога.
И удалилась, виляя бедрами, оставив Аллу рыдать на загаженном полу.

Ей приснилась дочь. В кофточке с изображением куклы Барби, в колготках и балетной пачке, Даша спешила навстречу по коридору, несла матери плюшевого слона, улыбку и объятия.
Алла подхватила малышку, ткнулась носом в волосы, вдохнула запах мочи и крови.
Она расклеила веки. Комната подрагивала во мгле. Горло пересохло, его будто исцарапало пустынными колючками. Судя по тому, как укоротились восковые столбики, она проспала не меньше часа.
В темнице. В этом аду.
Мышцы саднило. Плечевые суставы ныли. Опухшая грудь горела огнем. Правый сосок был больше левого в два раза. От холода кожа приняла голубоватый оттенок, мурашки покрыли бедра.
Алла стонала, разгибаясь.
Отчаянно хотелось жить.
Выбраться с острова и сделать все, чтобы Волкова ответила по закону.
Выпрямившись, Алла поерзала.
Руки поднялись на уровень лопаток. Андрей поражался ее гибкости. Что это у нас? Сучок? Гвоздь! Большие пальцы коснулись шляпки вбитого в столб гвоздя. Слишком высоко…
Алла подтянулась. Зацепилась фалангой за штырек. Надо накинуть на него веревку. Распилить волокна. Надо…
В углу кто-то был. За бочками, вне светового пятна. Человек с острыми плечами, с длинными лапищами до колен. Алла прижалась к опоре, словно тщилась раствориться в дереве. Он стоял там и раньше, этот безмолвный соглядатай. Не шелохнувшись, наблюдал, любовался. Когда она плакала. Когда дремала. Не абрис на бревнах, как она понадеялась сперва. Вот же тень падает к ногам.
– Эй… – язык еле ворочался.
На человеке был плащ. Странный кожистый плащ, ниспадающий перепончатыми крылами. Серая кожа. Маска из угольной тьмы. Он дышал в такт с миганием свечных огоньков, а Алла забыла, как вообще дышать. С каждым движением грудной клетки соглядатай становился ближе, наплывал. Саван темноты соскальзывал с человека… с существа… обнажая костистую морду, пасть глубоководной рыбы и крысиные зубы в алом зеве.
Алла лишилась чувств.

Ее разбудил шум, будто десяток людей столпился в бане, гомоня. Но, открыв глаза, она увидела лишь Волкову.
– Зачем вы это делаете?
– Делаю – что? – у Волковой отсутствовали брови, а то бы она задрала их озадаченно. Ни волоска на выпуклых мясистых дугах над глазками дикой свиньи.
– Зачем вы мучаете меня?
– Потому, – сказала садистка, – что твоя болезнь не лечится иным путем.
– Я не больна.
– Ошибаешься. Ты больна неверием. А это страшнее рака.
– Я – верю, – Алла думала о гвозде на тыльной стороне столба. О монстре, таившемся в углу, демоне, который был, несомненно, порождением фантазии. – Верю в то, о чем пишу.
Волкова внимала, поигрывая плетью.
«Ты хитрее, умнее ее, действуй!»
– Я могу написать о вашем сыне. Стать вашей евангелисткой. Прославить его на весь мир.
Волкова пожевала губу. Хвосты плети подметали пол.
«Сработало, – сердце забилось быстрее. – Сука заинтересовалась, повелась».
Алла смотрела, как женщина пятится к выходу, стучит кулаком в полотно. Дверь открылась, и что-то крупное ввалилось в баню, распласталось на бревнах.
Тело.
Волкова сапогом пнула лежащего человека. Перевернула на спину. Показалось белое лицо.
Алла закричала истошно. У ног садистки растянулся Сергей Шорин, и он определенно был мертв. Расследования заносили Аллу в морги, она неоднократно видела трупы. Она идентифицировала странгуляционную борозду под кадыком мужчины. Шорина задушили удавкой. Возможно, во сне. Раздели и бросили в баню, – откуда-то вылезла информация о покойниках, которых парили по-черному предки-язычники, охаживали веником, готовили к загробной жизни.
Кончик языка высунулся изо рта Шорина. На веках были нарисованы два черных крестика.
– Наши евангелисты, – промолвила Волкова, – черви и кроты. Воробьи и мыши.
Она ушла, оставив Аллу в компании со скорчившимся на боку мертвецом. Лязганьем замка прищемила отчаянный вопль.

– Сейчас, сейчас. Сейчас, доченька.
Алла шептала в пустоту, до красноты натирая спину о столб. Большинство свечей погасло. Тьма выкарабкалась из углов, сожрала ровно половину Шорина. Затекла в его глазницы нефтяными лужицами. Алла запретила себе думать о чудище с крысиными зубами. Блокировала кошмарные мысли.
Встав на цыпочки, она перетирала веревку гвоздем и задавалась вопросом, что порвется прежде – путы или сухожилия. По щекам лились слезы. Грудная клетка выгнулась килем. Алла уперлась пяткой в опору, от усилий мышцы трещали, скрежетали зубы.
– Давай же!
Веревка лопнула. Алла полетела головой вперед. Приложилась скулой к настилу, но, не обращая внимания на боль, тут же принялась освобождать ноги. Веревка нехотя поддалась.
Рано радоваться.
На четвереньках она подползла к Шорину.
– Извини меня.
Мужчина показывал язык, безучастный, холодный.
Алла похлопала его по плечу. Встала, попрыгала, разминая конечности. Взгляд прикипел к кресту на дверях. План созрел, она схватила кочергу, и приятная тяжесть металла аккумулировала силы. Алла задула свечи.
В углу, во мраке, там, где ей привиделся монстр, она караулила, стиснув импровизированное оружие.
– Мама придет, солнышко. Мама обязательно придет.
Она вспомнила, как тяжело дались ей роды, как на девятом месяце не могла самостоятельно застегивать сандалии. Ноги опухали, она носила сланцы. Врач сказал, летом у всех беременных так. Андрей помогал. Он купил ей великолепный польский чайник, при нагревании менявший цвета. Шестьдесят градусов – зеленый, как лягушка (гугушка, говорила Даша), девяносто градусов – красный. Идеально для детской смеси. Сутки рожала, тужилась, ребенок не встал, как надо. Выдохлась, сделали кесарево. Воткнули канюлю в позвоночник, чтобы вливать дозы чего-то там в спинной мозг. Операционная, воды, кровь… страшно, что анестезия не подействует, что по живому разрежут. Чувствовала, как чужие руки копошатся в животе. Два вскрика, девочка длинная, почти шестьдесят сантиметров… Осы в палату залетали, дочка сладкая получилась.
Алла всхлипнула.
В предбаннике зашаркало. Что-то еще хорошее нужно вспомнить. Как купальник мерила и молоко грудное на пол потекло. В четыре струи, целая лужа получилась, так стыдно, салфетки в лифчик засовывала…
Дверь открылась, в баню просочился тусклый свет. Вошла тень Волковой, потом сама Волкова, плоть на привязи черного плоского потустороннего фантома. Шершавый металл впился в ладони Аллы. Скулы свело, мочевой пузырь панически сигналил. Она выставила кочергу, как меч. Изготовилась.
Дверь затворилась. Чужое дыхание. Шаги. Чиркнула спичка, осветила Волкову – тварь повернулась к Алле широкой спиной. Нагнулась, подпалила свечной фитиль. Один, второй…
Алла бросилась через комнату и ударила кочергой по седому затылку. Будто по гвоздю молотком – Волкова ухнула и присела. В волосах заструилась кровь.
Алла отскочила, готовая отразить любую атаку.
Несмотря на рану, Волкова поднималась. Неуклюже поворачивалась к беглянке, толстые пальцы щупали рукоять плети. Алла коротко зарычала и ткнула кочергой снизу вверх. Стальной шип вонзился сектантке под ребра. Хотелось видеть страх на обрюзгшей морде, но Волкова не доставила ей такого удовольствия. Она улыбалась! Гадина улыбалась, оголяя кариозные резцы.
Алла навалилась, кол пробил какую-то преграду в груди Волковой и проскользнул сантиметров на пять. Садистка захрипела. Улыбка превратилась в обагренный кровью оскал. Кочерга прошила сердце той, кого отшельники почитали за Божью мать. Волкова осела на пол. Кол торчал из ее груди. Остекленевшие глаза таращились в потолок. С потолка…
Ликующая Алла осеклась, задрала голову. С потолка струилась дымка. Туман заполнял избу. Алла заметалась, чувствуя сладкий травяной аромат, похожий на запах сектантского отвара. Вновь показалось, что в бане кто-то прячется, и не один. Целая стая кожистых существ, кружащихся вдоль стен…
Алла прикрыла нос и обнаружила, деревенея: световой прямоугольник в дыму, отворенную дверь бани, фигуру на пороге…
В комнату вошел Соломон Волков. Абсолютно лысый, как после химиотерапии, мужчина-ребенок. Он ковылял, передвигая перед собой березовые ходунки. Облаченный в тогу из мешковины, такой же кривоногий, как мать. Живот его перекатывался при ходьбе белым киселем, жир спускался складчатой юбкой на слоновьи бедра. Грудь больше, чем у Аллы, качалась, увенчанная тремя темными сосками: дополнительный расположился посредине, над солнечным сплетением. У тридцатитрехлетнего Соломона Волкова было лицо младенца и огромная голова, оттопыренная слюнявая губа и блуждающий взгляд идиота.
А еще он светился. Тюрина не врала. Голубоватое сияние источала его кожа, его складки, прыщи и гнойники.
«Фосфоресцирующее вещество», – подумала Алла, теснясь к бочкам. Это была последняя рациональная мысль.
Волков, проигнорировав журналистку, дохромал до матери. Потребовалась минута, чтобы он присел на корточки, сопя и отдуваясь.
«Беги!» – призывал мозг, но мышцы отказались подчиняться. Алла глядела, как руки Соломона трогают мать. Кисти пометили шрамы, следы железнодорожных костылей. Они пульсировали, словно под рубцеватой кожей извивались крупные насекомые.
Соломон заскулил. В дыму, в сладко пахнущей мгле, он мерцал, как луна над ядовитыми таежными болотами. Свет стекал по предплечьям и уходил в Волкову, насыщая мертвую плоть. Мертвую ли?
Волкова открыла глаза и села рывком.
Алла ахнула.
Соломон улыбался матери – и столько нежности было в его улыбке, что сердце Аллы защемило. Как само счастье, как новорожденная дочь – такой была улыбка Соломона. Таким было чудо, воскрешающее любимых, изгоняющее смерть.
«Я есмь воскресение и жизнь, – сказал Иисус сестре Лазаря в Вифании. – И всякий, верующий в Меня, не умрет вовек».
Евангельские стихи вынырнули из памяти. Они были там всегда, погребенные под грудой будничного хлама.
«Веришь ли ты сему?»
Волкова обхватила пальцами кочергу и извлекла из сердца. Бросила кусок окровавленного железа к ногам Аллы.
– Вот твоя вера, девочка, – сказала она.

Катерина Тюрина пришла домой под утро. Горячую воду отключили, сын вскипятил чайник и поливал окаменевшую мать, мочалкой тер ее тело. Розовые ручейки струились по коже. Тюрина зажмуривалась и слышала хруст ломаемых пальцев и рев пылесоса, но за этой какофонией звучали другие, утешающие песни: ангельский хор, хлопанье легких крыльев. Вчера ей приснилась Мария, сказала, что делать, и она сделала, как надо. Мир стал чище, пение ангелов – громче.
Ибо хулящих Божий промысел ждут ад и адские муки.
В химчистке найдут бывшего журналиста Карпова, его пальцы размозжили молотком, а глотку закупорили шлангом промышленного пылесоса.
Пойте, ангелы, пойте.
И ангелы пели в буране. Ветер таранил новостройки. Тьма ползла из тайги.
Гнездов, усталый, но удовлетворенный, рухнул, не разуваясь, на диван. На ботинки налипли комья кладбищенской земли. Сегодня он здорово поработал, совершил доброе деяние, пусть и за деньги. Он заслужил десерт. Усмехаясь, Гнездов разжал зубы, выпустил жгут, обронил шприц. Жар растекался по венам. За отодвинутыми шкафами кто-то скребся и причитал. Гнездов погрузился в свой последний сон, медленно перетекший в смерть.
Пойте, ангелы. Ветер, вой.
В офисе «Сибирского полудня» ошарашенный главный редактор перечитывал машинописный текст, всего восемь слов: «Бог живет в тайге, его имя Соломон Волков». Редактор уставился на беснующуюся за окном метель, будто она могла ответить ему.
Сергей Шорин сидел за рулем автомобиля, рассеянно массируя шею. Бледно-розовая полоса под кадыком – не все, что он принес из тайги. Были еще сны о том промежутке между потерей сознания и моментом, когда он очнулся на полу бани. О не-жизни, о болотах, сопках и костистых существах в дуплах деревьев. О небесах цвета сырого мяса, о невидимых плакальщицах, о горькой полынной вечности без грез и надежд.
Он смутно помнил, как они с Аллой покидали лес, но дома, под одеялом, он почувствовал запах хвои, гнили и погребальных костров и понял, что не выбрался целиком, что часть его заблудилась в чащобе: оторванный лоскут.
И были автомобили, светофоры, пластик и бетон, а была населенная немыслимой жутью тьма. Он видел за отбойником двигающиеся согбенные фигуры, вспыхивающие искрами желтые глаза. Видел в зеркале (отныне занавешенном) ухмыляющуюся крылатую тварь в кольчуге из человеческих зубов.
Он слышал, как ангелы поют в метельной ночи.
Задние дверцы открылись, Шорин содрогнулся. Алла залезла в машину. На руках она держала что-то метровое, завернутое в шуршащий целлофан. Салон наполнился сладким запахом тлена. Кадык Шорина дернулся под следом от удавки.
Шорин молчал, стискивая рулевое колесо, и Алла молчала. Прижимала к себе ношу, самую тяжелую в мире, терлась щекой о сверток. Ее глаза были лампадками. И так жутко становилось от их света, что Шорин отвернулся.
– Поехали, – сказала женщина.
Загудел двигатель. Автомобиль устремился к тайге.
Парфенов М. С.
Сюрприз
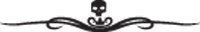
Настя Хрипцова легко перескочила с выдвижной ступеньки на перрон и, щурясь на солнышко, глубоко вдохнула свежий воздух родной провинции. Ветерок тронул волосы, шею. По коже побежали мурашки, сердечко затрепетало.
– Ух ты, какай стала! Милай моя! Звезда, ну прям звезда!
Низенькая круглая Василиса Андреевна – «мама Вася», как Настя с малых лет привыкла ее звать, – подкатилась веселым цветастым мячиком. Обняла, затискала, захлопала в ладоши. Восхищенно ахая да охая, завертела, подталкивая, и завертелась сама, разглядывая то с одного боку, то с другого.
– А платьице-то у нее какой, глянь-ко!.. А босоножки-то, а? А, Вить?
– А что? Модно, – брякнул дядя Витя связкой ключей в ладони. Под полоской желтых от никотина усов пряталась меланхоличная полуулыбка. – Ну, здравствуй, племянница. Добре, что приехала.
– Да! Здравствуй-здравствуй, милай ты наша! – спохватилась тетка. – Как добралась-то? Устала в дороге небось?
– Попа болит, – хихикнула Настя. – А так нормально…
– Ну иш-шо бы, три часа волындалась, даж больше.
– Так она, Вить, иш-шо в Москве-то, небось, по метрам зачухалась, пока до вокзала дошкандыляла. Да, Насть? Или ты на такси?
– На такси, – Настя с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос, заново привыкая к окающему да «ишшокающему» брянско-шуйскому эсперанто, одновременно такому милому и такому смешному.
– А у нас свое такси. Местной… Дай-ко, – дядя Витя подхватил ее чемодан и двинулся к тени у стен маленького вокзала. – Василис, я в машине буду, догоняйте!..
– Вишь как? Таксист выискалсо. Ну пойдем, правда что ль, чего стоять-то. Как мама, папа? Учеба как?..
Пять минут спустя Настя продолжала отвечать на расспросы уже с заднего сиденья старенькой, но все еще ходкой дядиной «девятки». Салон пропах пылью, однако все равно тут было куда уютнее, чем в вагоне «Ласточки». Может быть, потому, что в детстве всегда так каталась, слушая разговоры сидящих впереди взрослых. Может быть, еще и потому, что за стеклом проплывали до слез знакомые дома и улочки. Опрятные деревянные постройки едва ли не царских времен – и типичные пятиэтажные короба советской поры, похожие на дородных кумушек, игриво поглядывающих из-за высоких берез: «Смотри-ко, кого принесло! Да то ж Настька с третьего подъезда, студенточка! Никак на каникулы пожаловала, порыбалить!»
На перекрестке, когда машина повернула на проспект, то есть попросту на самую широкую и длинную в городе улицу, Настя прилипла глазами к окну, высматривая звонницу Воскресенского собора. Над всеми прочими городскими зданиями та возвышалась, будто барин с картинки в учебнике – над бухнувшимися в ножки холопами.
– Шею-то не сверни, милай моя! Ужель соскучилась? Ну иш-шо бы, в Москве таку красоту разве сыщешь…
– Вася, а Вася, – прервал жену дядя Витя. Солнце теперь светило ему прямо в глаза. – А подай-ко очечи, а?
– А волшебной слово?
– Какой тебе иш-шо волшебной слово?.. Бегом, твою мать!
– Ишь ты! Суров как брянский лес…
Настя все-таки не выдержала и прыснула в голос:
– Ой, не смешите!
– А чегой-то «не смешите»? Тушь повытечет, что ль?
Дядя Витя надел старые солнцезащитные очки с большими квадратными стеклами и стал похож на Терминатора, только с усами. Настя согнулась пополам, давясь смехом. Отдышавшись, махнула рукой:
– Ох… и правда соскучилась я! И по городу, и по вам, родные мои.
– А мы тож скучали. А, Вить?
– А то. Знамо, скучали. Вот завтра утречком в Иваново прокачусь за спиннингом новым, а потом с вечера рыбалить поедем. На катере, а? А, Насть?
– А то! – в тон дяде ответила Настя. Потом вспомнила: – Только сначала я с девчонками встречусь, ладно?
– Уговорились, что ль?
– Вроде того, – она уже набирала сообщение в мобильном.
Прошло каких-то полчаса, и все собрались за обеденным столом. Хотя для обеда было еще рановато, скорее уж поздний завтрак. Но это по меркам Насти, успевшей отвыкнуть от заведенных в доме тети и дяди порядков. Теперь, глядя на разложенные по тарелкам первое, второе и десерт, она дергала за рукав подругу – помогай.
– Кушайте, кушайте, милай мои! – звенела хозяйка дома. – Супчику, а? Анжик, супчику будешь? Или котлетку? А?
– Спасибо большое, я сытая…
– Ну, значит, супчику! – скомандовала мама Вася, орудуя половником. – А котлетку опосля.
Анжелика Саакян жила на соседней улице – хотя здесь, в маленькой Шуе, все улицы были в той или иной мере соседними – и училась с Настей в одном классе. Как и Света, еще одна их подружка.
– А Светка чего не пришла? Али придет иш-шо? – спросил дядя Витя, благоразумно наблюдавший за всей суетой со стороны, прислонясь к стенке видавшего виды комода.
– Не знаю, – Настя переглянулась с подругой. – Что-то молчит, на звонки не отвечает. И в «Одноклассниках» ее нет, офлайн.
– Спит, наверное, – пожала полными плечами Анжик. – Я ей в вотсап голосовое отправила – как проснется, порадуется. Правда, им же из Кочнево добираться…
– Ну, к ужину поспеют – разговеемся, – решил дядя Витя. А потом добавил, усмехаясь в усы: – Иш-шо разочек…
И полез в комод за рюмками.
– Ты чегой-то? – встрепенулась тетка. – Чего удумал-то, я тебя спрашиваю?!
– Знамо дело – отметить надо… Али как?
– Али так тебя растак! Какой такой «отметить»?! Время-то видал, время-то, а? Неча девок мне спаивать! Ишь ты!
– Тьху ты! Тудыть тебя, Вася… Время! – Дядя Витя с досадой крякнул, садясь за стол. Табурет под ним ответил не менее ворчливым скрипом. – Так и живем, племяшка, вишь? Время срать – а мы не емши…
– И правда-то! Котлетку, Анжик, а? А, Насть?
– А может… – задумалась Настя, которой объедаться вовсе не хотелось, – может, мы сами к ним, в Кочнево, заедем? Ну, типа в гости?
– Да вы ж дозвониться не можете. Как же вы, без предупреждения-то?
– Ну, мы так можем…
– Сюрпризом! – пришла на выручку Анжик.
– Сурпризом дело хорошее. А если не будет там Светки-то? – все еще сомневалась тетка.
– Да куда ж она денется, беременная!
– А не будет – обратно свезу, – заключил дядя Витя. – И правда, Вась, чай не тридевять земель, нехай прокатятся дети. Как раз и время пройдет. А, Вась?..
Дорога из города была прямая как стрела, однако дядя Витя по пути вывернул руль на первом же перекрестке. Притормозил на пустующей стоянке возле «Магнита» – самого большого гипермаркета в округе. Настя и Анжик молча сидели сзади, выжидая. В приоткрытое окно надувало запах прелого навоза с полей в паре сотен метров по другую сторону от магазина. Дальше, за полями, темнела полоска леса. В зеркале заднего вида отражались «терминаторские» очки дяди Вити, который заглушил мотор и замер, спокойно сложив руки на коленях.
– Насть, а Насть! – сказал он наконец вкрадчиво. – Ну ты ж оглянись вокруг себя…
Настя и правда начала осматриваться.
– …Не гребет ли кто тебя! – закончил дядя Витя громко. – Чего расселись-то, а? С пустыми руками гостевать намылились, что ль?
– В смысле? – спросила Настя, пихнув ехидно хихикающую подругу локтем в упитанный бок.
– Ну мы чего стоим-то здесь, милай моя?.. Думашь, я понюхать тут встал? Нанюхался за всю жизнь-то. Идите-ко купите, чего там беременным пить можно…

