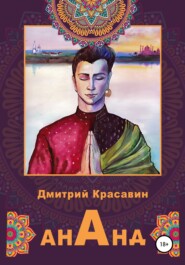
Полная версия:
Ананд
Мама удивленно посмотрела на меня, вздохнула, помолчала немного и в раздумье произнесла:
– Пожалуй, можно и так, – снова помолчала и уже более уверенно: – Да, сегодня так и надо говорить, по-другому нельзя.
– А как по-другому? – спросила я.
Она снова вздохнула, прекратила крутить ручку машинки, провела рукой по моим волосам:
– Пусть пока будет так, как сказала ты, но не забывай, пожалуйста, этих папиных слов. Вспоминай, задумывайся над ними почаще. Когда-нибудь сама все поймешь.
На следующей неделе Женю Цветкова из пионеров все же исключили, но я уже ничем не могла ему помочь, так как меня вывели из совета дружины „за недостаток принципиальности и политическую безграмотность“. Мишка Шаронов добивался и моего исключения из пионеров, но другие члены совета его не поддержали.
В мае 1929 года, когда я училась уже в девятом классе, меня как активного товарища, теперь уже правильно понимающего политику партии и правительства, приняли в комсомол. Мишку Шаронова приняли на год раньше. Когда я выходила из кабинета, в котором заседала приемная комиссия, он первым подбежал ко мне поздравить, долго тряс руку и сказал, что очень волновался за меня. Я искренне простила ему былые нападки. Мы вышли вдвоем на улицу, он достал из кармана брюк папиросы, щелкнул по донышку пачки пальчиком, протянул мне и предложил:
– Закуривай, товарищ Яковлева!
Я сказала, что не курю и не желаю этому учиться.
– А вот это уже никуда не годится! – прокомментировал Мишка мой отказ и пояснил. – Женщины в нашей стране тоже люди. Во всех правах и обязанностях революция приравняла вас к нам, мужчинам. Пора бы это осознать, а не жить по старинке – тут мужское, там женское. Мужья жен бьют, жены терпят. Ты как комсомолка должна ходить с высоко поднятой головой и всем видом своим демонстрировать, что с любым мужиком находишься на равных. Поняла?
Он снова протянул мне пачку с папиросками.
Я легонько отвела его руку:
– Погоди немного. Если на то пошло, давай вместе равноправие демонстрировать.
– Как это? – удивился Мишка.
– Я буду идти по улице с папиросочкой, а ты прикроешь голову моим платочком, чтобы мужское равенство с женщинами демонстрировать. Могу и туфельки свои тебе предложить, если по размеру подойдут.
– Ну змея! – Мишка смачно сплюнул себе под ноги. – Я к тебе как товарищ к товарищу, от всего сердца, а ты… Сразу видно – не нашей крови, не из пролетариев!
Так и не закурив, он сунул папиросы в карман, развернулся и, размахивая руками, пошел в сторону своего дома.
Мне почему-то жалко стало и его и себя. Радость от вступления в комсомол немного поутихла.
На следующей неделе в школе Мишка поймал меня на перемене и сунул в руки перевязанную тесемкой толстую картонную папку:
– На вот. Из горкома комсомола велели передать для изучения. В конце месяца, перед летними каникулами, вернешь мне, отнесу в горком и получу для тебя инструкции! Понятно?
Я повертела папку в руках, прочитала на корочке надпись: „Женский вопрос“.
– Зачем мне это?
– Если дали, значит надо. Вопросы тут неуместны. В горкоме лучше нас знают, зачем и почему.
Я ткнула папкой ему в живот:
– Неси обратно! Пусть объяснят зачем, тогда подумаю. А просто так читать, времени нет: сквер городской с ребятами в порядок приводим, с отстающими в школе после уроков занимаюсь, да еще и самой надо учиться и маме помогать.
У Мишки аж пятна по лицу пошли от возмущения. Он оттолкнул от себя мою руку с папкой и прокричал:
– Ты соображаешь, что несешь? Горком – это власть. Советская власть! Ты что, против советской власти?
Я не отвечала и уже хотела бросить злополучную папку на землю к ногам Мишки, развернуться и уйти, но он сменил тон:
– Ладно. Давай не будем кипятиться. Я поделюсь с тобой своими соображениями, а дальше делай что хочешь.
Я посмотрела ему в глаза, собираясь съязвить что-нибудь насчет его „соображалки“, но неожиданно поймала в его взгляде какую-то боль, неуверенность. Неужели это он из-за меня переживает? Так или иначе, решила выслушать.
– Понимаешь… – задумчиво продолжил Мишка, отпустил голову и снова замолк, собираясь с мыслями. Потом сжал кулаки. – Ты такая! Такая!!! Ну… Не как все! Ты из школьных девочек единственная стала комсомолкой. Да и вообще в городе комсомолок кот наплакал. О чем это говорит?
Он поднял на меня глаза.
Я молчала.
– О том, – не отводя от меня глаз продолжил Мишка, – что другие женщины не чувствуют своей силы, не чувствуют себя равными с мужчинами. Ты всех за пояс можешь заткнуть. А это о чем говорит?
Я продолжала молча слушать.
– О том, что в наших рядах явный недостаток активных, просвещенных комсомолок. Вот горком и хочет поднакачать тебя в этой области знаний. – Мишка помолчал и подытожил: – Так мне думается…
Он снова потупил взор.
Поколебавшись, я сунула папку себе под руку, свободной рукой шлепнула Мишку по спине, развернулась и пошла домой.
Дома развязала на папке тесемки и внимательно просмотрела ее содержимое. Сверху перевязанные шелковой лентой лежали четыре брошюры издательства Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова: „Происхождение семьи, частной собственности и государства“, „Революция и молодежь“, „Манифест коммунистической партии“ и „Речь Ленина на III съезде РКСМ“. Далее уже разрозненно шли: „Новая мораль и рабочий класс“ со статьями Александры Коллонтай, журнал „Молодая гвардия“ номер три за тысяча девятьсот двадцать третий год и сброшюрованная подборка газетных статей.
Речь Ленина и „Манифест“ я читала еще перед вступлением в комсомол, сочинение Энгельса на тему семьи и государства показалось мне чересчур большим и заумным, поэтому я отложила эти три брошюрки в сторону и открыла „Революцию и молодежь“. Красным карандашом в содержании была подчеркнута статья под заголовком „Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата“. Автором „заповедей“ был некий Арон Залкинд, имя которого мне ни о чем не говорило. Я перелистала брошюрку, нашла „заповеди“, прочитала. Первые восемь ничего интересного собой не представляли и поэтому в памяти не задержались. Последние четыре были обведены карандашом, а на полях стоял восклицательный знак. Я примерила их к себе, перечитала несколько раз, но так и не поняла, как и кто должен проводить „половой подбор по линии революционно-пролетарской целесообразности“8. Закрыв брошюру, взялась за изучение „Молодой гвардии“. В этом журнале было выделено восклицательными знаками письмо Коллонтай к трудящейся молодежи „Дорогу крылатому Эросу!“. Оно буквально взорвало мой ум. Я читала его медленно, вдумываясь в каждую строку…
Конечно, я и раньше заглядывалась на мальчиков, мечтая о большой чистой любви, в которой двое становятся одним целым. С одним из них, Женечкой Будылиным, у нас возник целый роман без слов: мы украдкой от учителей подолгу на уроках смотрели друг другу в глаза и читали в них такую бурю высоких чувств, что в голове зашкаливало. Этой весной я стала ощущать, как и от других мальчиков со всех сторон ко мне тянутся флюиды повышенного интереса, но игнорировала их, чтобы не давать поводов для несбыточных надежд. Мне безумно хотелось, чтобы именно от Женечки и только от него эти флюиды обернулись в красивые слова, в букеты цветов, в признания… Коллонтай называла все это буржуазными пережитками. Она не требовала напрямую, как Арон Залкинд, вовсе исключить из любовных отношений „элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевания“, но делала акцент на более радостных, чем в капиталистическом обществе, отношениях между полами, на разнообразии половой жизни, половых фантазиях. При этом, однако, вторя автору заповедей, также предписывала на первое место ставить трудовой коллектив, а не любимого человека.
Последующие несколько дней я была одержима мыслями о „разнообразии половой жизни“ и о пролетарской морали, предписывавшей всю себя отдавать коллективу9. Примеряла мысленно эти революционные идеи к себе, к моим отношениям с Женечкой, но как-то ничего не складывалось. Попробовала представить, как воспримет эту новую реальность мама, но быстро поняла, что для нее такой коммунизм будет шоком. Мама была бесконечно далека от мыслей о „разнообразии половой жизни“, и даже со Степаном Васильевичем они спали раздельно. Правда, тот по слабости здоровья и сам никаких прав на мою маму не предъявлял. Как тут быть?
Может, с Мишкой поговорить? У него комсомольский стаж больше. Вот только застенчивым каким-то стал. На переменах и при встречах на улице опускает глаза, краснеет. Вероятно, неравнодушен ко мне, но напрямик сказать трусит, а косвенно выразить чувства, не нарушив при этом восьмой заповеди Залкинда, невозможно. В принципе он парень неплохой – с прибамбасами, но честный, и я решилась.
Как-то в середине мая мама послала меня в магазин за хлебом. Очередь была на час с лишним. Я увидела перед прилавком Мишку, протиснулась к нему вплотную и попросила отоварить мою хлебную карточку, сказав, что у меня к нему срочный разговор, но не для посторонних ушей.
Отоварив карточки, мы с буханками хлеба выбрались наружу. На улице начинал накрапывать дождик. Мишка пригласил для разговора пойти к нему домой. Мы пошли. Его родителей и братьев дома не было – все работали во вторую смену. Мишка раздул сапогом самовар, заварил в чайничке смородинные листья с кипреем, достал из застекленного шкафа чашки с блюдечками, мы сели за стол и приступили к чаепитию.
– Ты читал брошюрки из той папки? – спросила я, отхлебнув из блюдечка ароматный чай.
– А то как!
– Да так, что я плохо себе представляю, что такое „разнообразие половой жизни“ и как в этом деликатном вопросе можно исходить из интересов коллектива.
Мишка радостно оживился, затем напустил на себя умный вид и, прищурив глазки, поинтересовался:
– Ты что, плохо изучала речь Ленина на Третьем съезде РКСМ?
– Учиться, учиться и еще раз учиться коммунизму, – отрапортовала я.
– Просто так учиться – ничему не научишься. Ленин говорил, что учебу надо не отрывать от практики, – назидательно поправил он меня, достал из кармана записную книжечку, полистал и процитировал: – „Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам от старого капиталистического общества, – это полный разрыв книги с практикой жизни“10.
Полистал дальше и извлек еще одно ленинское:
– „Коммунист – значит общий. Коммунистическое общество – значит все общее“**11. – Закрыл книжку и уже от себя расшифровал: – Заводы и фабрики пролетариат сделал общими в октябре семнадцатого. Сейчас крестьяне отвоевывают у кулаков землю, чтобы объединиться в колхозы. Следующий этап, который тоже давно назрел, – половая революция. Мы знаем, что семьи – главное препятствие на пути к коммунизму, потому как каждая семья заботится о своем благе более чем о тех, кто живет за стенкой, и в конечном итоге – более чем о благе родины и освобождении всех стран от ига капитализма. Улавливаешь суть?
– Мне кажется, у каждого человека должно быть гнездышко, в котором можно отдохнуть, а потом с новыми силами работать ради общего блага.
– Гнездышко – это мещанство! Из гнездышек надо вылезать, жить интересами коммуны. Половая жизнь – важнейшая часть межчеловеческих отношений. Половая революция покруче Октябрьской – тут винтовками не обойтись. Если мы застрянем на теориях и не перейдем к практике, к раскрепощению половых отношений, ликвидации семей, будущие поколения нам этого никогда не простят!
Он замолчал. Я сидела на стуле, не поднимая на него глаз, не зная, что возразить, и тоже молчала.
Мишка встал из-за стола, подошел ко мне сзади, наклонился, неожиданно обнял вместе со спинкой стула, ухватил ладонями за груди, припал губами к уху и прошептал:
– Пора переходить к практике.
По моему телу разлилась легкая истома, но что-то более тонкое в глубинах души с ужасом прокричало: „А как же Женечка Будылин?“ Я встрепенулась, вырвалась из рук Мишки и, вскочив со стула, ударила его с размаху ладонью по щеке.
Он отпрыгнул назад, защитил лицо локтем правой руки и с обидой прокричал:
– Я к тебе по-товарищески, со всей душой, а ты… Ты ко мне как мещанка к хахалю!
Я пошла к дверям и на ходу пояснила:
– Извини, Миша, я люблю другого. Безнравственно любить одного, а обниматься с другим!
– Нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата12, – услышала я уже в сенях. – А ты ставишь личное над классовым. Во мне все горит, мешая мысли и парализуя работу! Я должен разрядиться, чтобы вновь обрести ясный ум и способность работать для общества. Бросать меня в таком состоянии – не по-комсомольски!
Я остановилась, обернулась. Он, опасаясь заработать очередную оплеуху, продолжал защищать лицо рукой, при этом не двигался и смотрел на меня с мольбой, как на икону. А когда по его щеке покатилась слеза, я не выдержала, подбежала, думая ограничиться братским поцелуем, но Мишка обрадованно подхватил меня на руки, бросил на кровать, навалился сверху, стиснул все тело…
Дальше случилось то, что когда-нибудь случается с каждой девушкой. Потом он расслабленно перевернулся на спину, потянулся за лежавшей на подоконнике пачкой папирос, увидел вдруг пятна крови на простыне и уже не жалобным голосом, а с обидой раздраженно скомандовал:
– Быстро сними простынь и замой все под рукомойником!
Я спрыгнула с кровати, оправила на себе измятое платье, обернулась к Мишке, показала ему дулю, выбежала в сени, схватила оставленную там на полочке свою буханку и выскочила на улицу…»
Надежда замолчала, собираясь с мыслями. Костер догорел. Она поднялась с бревнышка, огляделась по сторонам, обернулась к Ананду:
– Извини, но уже начинает смеркаться.
Потянулась, тряхнула головой, разбросав по плечам волосы, и подвела итог:
– Доскажу завтра.
Оставив прошлое позади, надела на руки брезентовые рукавицы, выкатила толстой веткой из потухшего костра горячие камни и совком стала переносить их по одному в келью. Ананд тоже поднялся, намереваясь помочь, но усилившаяся боль в бедре заставила его снова сесть. Управившись с камнями, Надежда помогла ему спуститься, устроиться на ложе, приложила к ушибам новые холодные компрессы и, поцеловав в щеку, поднялась наружу. Со своего ложа Ананд с непонятно откуда навалившейся на него тоской молча наблюдал, как узкое отверстие входа закрывается укладываемыми сверху ветками. Потом она ушла. Спустя пару минут ветки зашуршали, потревоженные не то зверем, не то птицей, и все стихло.
Глава 3. Продолжение исповеди
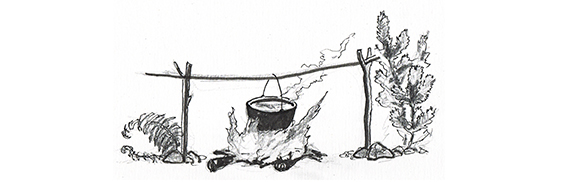
На следующее утро Надежда опять пришла одна, принеся с собой узелок с приведенной в порядок одеждой страдальца, бидончик с молоком и маленький мешочек с гречкой.
Ананд в нарушение ее рекомендаций снова самостоятельно выбрался наружу, заготовил хворост для костра и, не отходя далеко от кельи, успел насобирать целый котелок черники. Увидев свою спасительницу, он, запахнув плотнее вокруг тела одеяло, прихрамывая, подошел к ней, поклонился в пояс и протянул до краев наполненный ягодами алюминиевый котелок. Она хотела было поругать этого легкомысленного индуса за нарушение постельного режима, но, взглянув на его улыбающуюся физиономию, передумала: коль выздоровление идет столь быстрыми темпами, может, преподававший на курсах оказания первой помощи фельдшер не совсем был прав, предписывая неподвижность при травмах конечностей? Приняв котелок, она передала ему узелок с одеждой, высыпала чернику на лоскут чистой материи и пошла к ручью за водой. Ананд переоделся, одеяло отнес в келью.
Спустя некоторое время, позавтракав гречневой кашей с молоком, они снова сидели плечом к плечу на бревнышке возле костра. Вероятно, Надежде самой хотелось выговорить все наболевшее, чтобы простить себя. А перед кем еще можно так откровенно раскрыть душу, как не перед посторонним человеком? И, вздохнув, она продолжила свою исповедь.
«Прибежав от Мишки домой, я села в сенях на табуретку и разревелась. Наревевшись вдоволь, прошла в горницу, положила буханку в хлебницу. Мама была в ателье, и это спасло меня от ее расспросов. Я достала из ящика в письменном столе папку с материалами по женскому вопросу, развязала тесемки, раскрыла брошюрку со статьей Коллонтай. Перечитала ее рассуждения о бескрылом Эросе, который калечит душу.
Да, с Мишкой при его зацикленности на физической стороне отношений мой Эрос взлететь никак не мог: потрепыхался немного и ткнулся в грязь. Мишка тут ни при чем, он такой, какой есть. Я сама виновата во всем, могла бы залепить ему оплеуху, вырваться, убежать. Вероятно, где-то в глубинах подсознания моя плоть хотела изведать эту близость с мужчиной. Вот и изведала. А душа теперь рыдает по сломанным крыльям.
Я промокнула платочком остатки слез на щеках. Как жить дальше? Как теперь будут складываться отношения с Женечкой Будылиным – он такой чистый, безгрешный… А я? Как буду смотреть в его глаза? Если не сказать ему обо всем, между нами появится трещина. Мои глаза будут лгать – в них не будет чистоты. Но рассказать, не значит ли оттолкнуть от себя, ниточка нашей зарождающейся любви такая тонкая.
Я мучительно долго думала, как найти выход, и наконец определилась: коль ниточка тонкая, надо ее укрепить, а потом и открывать свою тайну.
Мысль захватила меня. Я положила папку в стол, подошла к зеркалу, оглядела себя. Вид, конечно, неважнецкий. Отошла в сторону, взяла с маминой полочки косметический карандаш и гребень для волос. Снова подошла к зеркалу, слегка насурьмила брови, поиграла с волосами, вплела в косу ленточку. Оглядела себя со всех сторон, надела мамины туфельки и пошла к Будылиным.
Двери в дом были приоткрыты. Я для приличия постучалась в створку. Из глубины донесся голос Женечки:
– Заходите, кто там есть!
Я зашла. Увидев меня, он засуетился, стал извиняться за беспорядок. Я сказала, что не могу разобраться с натуральными логарифмами и пришла к нему за помощью.
Потом, сдвинув стулья, мы долго сидели за письменным столом. Я делала вид, что целиком сосредоточена на его объяснениях, и прижималась „ненароком“ грудью к его боку. Женечку кидало в жар, он путался в определениях и формулах. Наконец я обрадовано воскликнула, что все поняла, встала в полный рост. Он тоже поднялся со стула. Я как бы в порыве благодарности бросилась ему на шею, повисла на ней, обхватив двумя руками, плотно прижалась всем телом и поцеловала в щеку.
А потом… Потом мы смотрели друг другу в глаза и так долго целовались, что заболели губы. Вечером пришел с работы его отец. Мы расстались, договорившись встретиться через пару часов у входа в сквер. Женечка пришел на свидание в новых ботинках, с букетом ландышей. Мы гуляли по аллеям, снова целовались, он читал посвященные мне стихи, нежные, искренние.
На третий день нашего бурно расцветшего романа я отдалась ему на сеновале в старой риге. Все было ужасно романтично и сказочно прекрасно, но Женечку сильно удручило то, что он у меня не первый и я отдалась ему, уже не будучи девственницей. Я рассказала про Мишку, он стал упрекать меня, почему я не дала этому пошляку и задаваке достойного отпора. Я плакала, умоляла меня простить, но не умолила. Наш роман закончился.
Я чувствовала себя одинокой, никому ненужной, всеми презираемой и, вернувшись домой, решила разом покончить с этой жизнью. Воображение сладостно рисовало, как Женечка раскаивается в своей жестокости и, задыхаясь от слез, падает на крышку моего гроба. Осуществлению планов помешал приход мамы. Она без слов поняла, что со мной происходит, обняла меня. Я разревелась у нее на груди, рассказала о разрыве с Женечкой. Она слушала, гладила меня по голове, что-то говорила, утешала…
До конца мая оставалось два дня. Я не хотела встречаться с Мишкой, поэтому решила сама отнести злополучную папку в горком комсомола.
В дверях горкома столкнулась с первым секретарем и сунула ему папку в руки. Он повертел ее в руках, прочитал на корочке надпись „Женский вопрос“ и удивленно спросил:
– Что это?
К дверям подошла какая-то женщина в брючном костюме и с погасшей папироской в уголке рта.
Я посторонилась, пропуская ее, и ответила секретарю:
– Это ваша папка. Мне ее Мишка Шаронов передал для изучения и сказал, что до летних каникул надо вернуть в горком.
– Идея Константиновна, – окликнул секретарь уже поднимавшуюся по лестнице женщину, – вернитесь к нам на минутку.
Женщина обернулась, вынула изо рта папироску:
– Что еще?
Секретарь поднял вверх папку.
– С вашего отдела?
Женщина спустилась с лестницы, взяла папку, посмотрела на меня:
– Как, девочка, это оказалось у тебя?
– Мишка Шаронов дал.
Она окинула меня быстрым взглядом с головы до ног и скомандовала:
– Иди за мной. Будем разбираться.
Я послушно поднялась за ней по лестнице. Мы зашли в маленькую комнатку с низким потолком и маленьким окошком, открывавшим вид на глухую стену соседнего дома. По стенам комнаты напротив друг друга висели в массивных рамках портреты Крупской и Сталина. Под портретом Крупской, чуть ниже, без рамок на гвоздиках были прикреплены портреты Александры Коллонтай, Розы Люксембург и Клары Цеткин. Почти все место в комнате занимал стол, застеленный прожженной в нескольких местах красной скатертью, заваленной сверху бумагами, книгами, папками. Вокруг стола стояли четыре деревянных стула, выкрашенных темно-зеленой краской, изрядно протертой на сиденьях и спинках.
– Присаживайся, – предложила мне Идея Константиновна, указав рукой на один из стульев.
Я присела на краешек. Она положила папку на стол, изучающе посмотрела на меня:
– Тебе сколько лет?
– В октябре шестнадцать будет.
– Комсомолка?
– Да.
– А звать как?
Я ответила.
Она села за стол напротив меня, пододвинула к себе лежавшее на бумагах чайное блюдечко, достала папироску, закурила, развязала на папке тесемки, просмотрела содержимое. Пару минут сидела в задумчивости, пуская кольца дыма в потолок и стряхивая пепел в блюдечко, потом перевела взор на меня:
– Ну вот что, Наденька, если в столь нежном возрасте ты все это прочитала, то расскажи-ка мне, в чем суть „женского вопроса“.
Я стала пересказывать статью Коллонтай.
Она перебивала, дополняла и под конец, увлекшись, уже говорила одна.
С ее слов, выходило, что „женский вопрос“ – это не о женщинах вообще, а о полном пересмотре отношений между полами, вопрос будущего страны, вопрос построения коммунизма. Без ликвидации буржуазного института семьи коммунизм построить невозможно. Она обильно цитировала Ленина, Маркса, Энгельса, Бебеля, и все выходило так, что нам надо срочно создавать коммуны, в которых все будет общим, мужчины и женщины станут свободно сходиться вместе на час или на год и так же свободно расходиться, находить себе других сердечных друзей, а рождающиеся от таких свободных отношений дети будут расти и развиваться отдельно от биологических родителей под руководством и опекой специалистов.
– „Коммунистическое общество – значит, все общее: земля, фабрики, общий труд“, – процитировала она Ленина, и пояснила: – Согласно ленинским заветам, к 1940 году13 мы должны построить коммунизм, превратить страну в единую трудовую коммуну. Вот в чем суть „женского вопроса“! Поняла?
– Надо подумать, – ответила я и опустила глаза.
Идея Константиновна достала вторую папироску, закурила. Не вынимая ее изо рта, переложила языком в уголок губ, оценивающе оглядела меня и спросила:
– У тебя роман с Мишкой?
– Нет никакого романа.
Она пригнулась через стол, дыхнула мне дымом в лицо:
– А че покраснела? Неужели даже не приставал?
Я молчала.
– Ладно, разговор окончен, – она встала со стула и протянула мне руку.
Я тоже встала, сунула свою ладошку в ее широкую ладонь. Она крепко сжала мои пальцы, отпустила и подвела итог:
– Будет Мишка приставать, скажи, что я ему ноги выдерну, мала ты еще для больших дел. А осенью, как исполнится шестнадцать, заходи, подумаем обо всем вместе.
Я вышла из дверей горкома, постояла, огляделась по сторонам и пошла на берег Волги. В скверике у реки присела в задумчивости на камешек возле воды. Так много всего вместили эти дни в мою жизнь – и ничего позитивного. Сначала я обожглась о Мишку, культивирующего жеребячью простоту отношений между полами. Потом о Женино презрение. Теперь передо мной нарисовали как идеал картину жуткого будущего, в котором не будет места для супружеской верности и вообще не будет супругов, а лишь товарищи-партнеры, строгающие детей и передающие, как заготовки, для дальнейшей обработки другим специалистам. Я так и сяк примеряла это будущее, но для себя в нем места не находила.
Прошло десять лет. Коммунизма у нас не построили. Идея Константиновна и наш секретарь горкома были объявлены врагами народа и отбывают сроки в лагерях. У меня растет дочь. Кто ее биологический отец – Мишка или Женечка, я не знаю. Никто из них о своих правах на отцовство не заявил, и мама предложила мне дать Настеньке отчество по моему отцу – Алексеевна.

