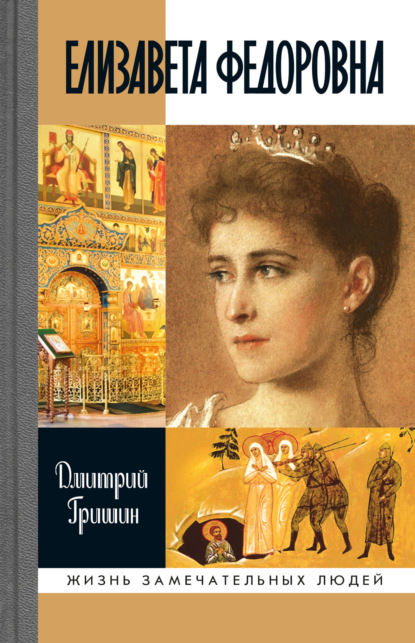
Полная версия:
Елизавета Федоровна
За Фритти следовало внимательно наблюдать, уберегая от малейших царапин и ушибов. Да разве можно предугадать, в каком неожиданном месте спрячется роковая опасность? 29 мая 1873 года резвившийся Фритти случайно выпал из огромного, до самого пола, дворцового окна. Упав с высоты в двадцать футов (шесть метров), он сильно ушибся, но остался невредим. Другой ребенок на его месте, возможно, поправился бы, однако внутреннее кровоизлияние в данном случае привело к летальному исходу тем же вечером. Малышу было два с половиной года. Раздавленная горем Алиса напишет матери: «В самый разгар праздника жизни мы внезапно сталкиваемся со смертью… Всю жизнь нам надлежит готовиться к встрече с вечностью».
Смерть брата стала первой трагедией, развернувшейся перед Эллой. Первым потрясением. Боль утраты усиливалась видом материнских страданий, не прекращавшихся ни через месяцы, ни через год. Мысль о собственной вине постоянно терзала и мучила Алису, доводя ее до исступления, вынуждая отказаться от всех привычных дел и заставляя чахнуть буквально на глазах. Элла с трудом подбирала слова утешения. И всегда старалась, по возможности, быть рядом. Два года спустя она писала матери из Шотландии, где гостила у бабушки: «Сегодня годовщина смерти бедного Фритти. Мне так хотелось, чтобы мы все были в Дармштадте, и тогда смогли бы положить цветы на его могилу».
Время постепенно залечило семейную рану, а заодно принесло существенные перемены. В марте 1877 года умер дедушка Эллы, принц Карл. Поскольку у Великого герцога не было детей, Людвиг, как старший племянник правителя, стал наследником Гессенского престола, взойти на который ему пришлось спустя всего три месяца. Возглавлявший страну двадцать девять лет Великий герцог Гессенский и Прирейнский Людвиг III скончался 13 июня, и его символический трон занял отец Эллы, Людвиг IV.
Нового сюзерена подданные встретили очень тепло. И у него, и у его жены прибавилось обязанностей, причем Алиса попыталась провести некоторые социальные реформы, на что ее сил уже не хватало. Хотя чувства гессенцев давно потеплели, их герцогиня утратила былую искорку: она интересовалась общественной деятельностью, науками, искусством, но все больше уходила в себя. В семье же ничего не изменилось – та же бедность, та же нехватка элементарного, тот же повседневный распорядок.
Летом 1878 года семейство Людвига отправилось в Англию. Детям был необходим целебный морской воздух. Королева сняла для них большой особняк на берегу Ла-Манша, в Истборне, любимом курорте англичан. Впрочем, Алисе, как всегда, было не до отдыха. За короткое время она и здесь организовала несколько благотворительных акций, а в октябре повезла детей к бабушке в Осборн. Новая встреча с домом детства не обрадовала, герцогиню не покидали мрачные мысли, усилившиеся после недавней лондонской катастрофы. 3 сентября на Темзе затонул прогулочный пароход «Принцесса Алиса». Под покровом ночи в него врезалось груженное углем судно, что привело к гибели порядка семисот человек. Та, чье имя красовалось на борту злосчастного парохода, сочла произошедшее дурным предзнаменованием. Расстроенная и печальная, перед отъездом из Осборна она сфотографировалась со старшими дочерьми. Как принято, на память. Это будут ее последние фотографии…
Сразу по возвращении домой, 5 ноября, принцесса Виктория пожаловалась на боль в шее. Следующим утром у нее диагностировали дифтерию, быстро поразившую и других детей. Не заболела только Элла, немедленно изолированная во дворце, а затем вывезенная из Дармштадта. 15 ноября болезнь перешла на четырехлетнюю Мэй. Ее хрупкий организм не смог справиться с таким тяжелым недугом, и той же ночью девочка умерла.
Алиса обезумела от горя. Смерть любимой малютки она долго скрывала от других детей, но постоянные просьбы Эрни передать сестренке подарок заставили ее сказать правду. Заплакавший мальчик бросился в материнские объятия, и Алиса, пренебрегая опасностью, нежно поцеловала больного сына. Этот поцелуй назовут позднее «поцелуем смерти», хотя, возможно, заражение герцогини спровоцировало что-то другое. Две недели она чувствовала себя хорошо, говоря о возвращении сил, но 7 декабря слегла.
Не имея возможности увидеть мать и не зная о тяжести ее состояния, Элла догадывалась о возникшей угрозе. Едва получив известие о маминой болезни, она послала ей записку: «Дорогая мама! Посылаю тебе эту рамку, которую я сама нарисовала. К сожалению, она не очень красивая. Я надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше в этот вечер. Я пишу так крупно, чтобы тебе было легче читать в постели». Беспокоилась и об отце: «Дорогой папа, мне бесконечно жаль, что мама плохо себя чувствует. Если я смогу что-то сделать для тебя, пожалуйста, дай мне знать. Я всегда очень рада, если могу тебе как-то помочь».
Трагическая развязка наступила 14 декабря в восемь часов утра. Роковая дата, годовщина смерти принца Альберта… Отец словно звал к себе дочь в день своей памяти, и последними словами умирающей были: «Дорогой папа!»
Герцогство погрузилось в траур. Люди искренне переживали утрату, оплакивая неутомимую благодетельницу. Подлинный масштаб ее личности только теперь стал по-настоящему понятен подданным. С церковной кафедры пастор Зелл говорил о ней как об «истинной матери страны», благородной правительнице, образцовой супруге. «Это был дар божественного провидения нашей земли», – подытожил проповедник. Тем не менее гроб Великой герцогини, согласно ее воле, был покрыт британским флагом. До последних дней она считала себя прежде всего английской принцессой.
«Моя мама была одной из тех великих душ, – вспоминал позднее Эрнст Людвиг, – которая, несмотря на то, что она умерла молодой, достигла высокого уровня совершенства; и все леди, с которыми я говорил, отмечали, что они изменились под влиянием ее личности. Они стали более серьезны и научились развивать в себе внимание к страждущим». Элла унаследовала от матери много ценнейших качеств – трудолюбие, великодушие, общительность, любовь ко всему прекрасному. Но главное, отзывчивость, сострадание, соучастие в бедах и радостях народа. И еще, вместе с сестрой Алики переняла глубокие религиозные чувства, отличавшие Алису всю жизнь.
Людвиг похоронил жену в Розенхёэ, среди лужаек и деревьев красивого парка. Через несколько лет на одной из площадей Дармштадта, неподалеку от дома, где родилась принцесса Елизавета, местные жители за счет своих пожертвований возведут обелиск. Надпись на нем будет гласить: «Алисе – незабвенной Великой герцогине».
* * *Прежнее счастье безвозвратно ушло, беспечная пора детства Эллы завершилась, резко перейдя в отмеченную сиротством юность. О несчастных внуках позаботилась королева Виктория, составившая подробную инструкцию о порядке их дальнейшего воспитания и написавшая детям о своей готовности стать для них новой матерью. Но если первое желание затем четко выполнялось овдовевшим Людвигом, гувернанткой, фрейлиной и нянями, то осуществление второго, зависящего лишь от самой Виктории, не имело реальной перспективы. Дети любили бабушку, а та, несомненно, питала к ним самые нежные чувства, еще более поразительные с учетом того, что прежде они никогда не проявлялись по отношению к ее собственным чадам. И все-таки королева оставалась монархом двадцать четыре часа в сутки, прагматичность всегда господствовала в ней над сердечностью, и той теплоты, что дарилась ею осиротевшим внучатам, не хватало для задуманного. Элла быстро почувствовала себя взрослой, самостоятельной, ответственной за младших. Переживая горе, она старалась хоть как-то смягчить его удар для других, прежде всего более слабых. Но слова утешения находила и для отца, и даже для бабушки.
Продолжились занятия с учителями, на которых согласно королевским указаниям должны были присутствовать приставленные к детям мисс Джексон или мадам Гранси. Тем же дамам вменялось в обязанность обращаться к Великому герцогу по всем вопросам воспитания, а также оберегать принца и принцесс от влияния других родственников, кроме их отца, немецкой бабушки и, разумеется, самой королевы. К прежним местам досуга прибавился уютный замок Вольфсгартен, унаследованный Людвигом вместе с престолом.
Периодически королева брала внуков к себе, в Англию, и те несколько месяцев, проведенных в шумном Лондоне, в великолепном Виндзоре или в живописном шотландском Балморале, были для Елизаветы счастливейшем временем. Нередко в летние месяцы она гостила в Осборне, где дышала морским воздухом и с удовольствием купалась. Элла хорошо знала и о том, что здесь состоялась свадьба ее родителей, и о том, что Осборн-Хаус был любимым домом бабушки. Теперь о былом счастье во дворце среди прочего напоминали две статуи, запечатлевшие дедушку Альберта в образе английского короля Эдуарда III, облаченного в рыцарские доспехи, и саму Викторию в образе его жены, доброй королевы Филлипы, заступившейся за поверженных врагов. И пусть это были изображения «по мотивам» давнего придворного маскарада, в них ясно читался образец супружеского союза. Он – бесстрашный, сильный и справедливый, она – верная, заботливая и милосердная.
Огромная Британия представлялась Елизавете полным контрастом милому, но такому захолустному Дармштадту – здесь чувствовалось дыхание еще малоизвестного мира, здесь кипела настоящая жизнь, пусть и не всегда ощутимая в королевских парках, где можно было весело резвиться. Правда, в личном быту мало что менялось – та же простота, та же расчетливость. Только если в Дармштадте они скорее обусловливались недостатком средств, не хватавших порой даже на постельное белье, то в Англии проистекали из протестантского культа самодостаточности. Починка одежды, штопка и вязание были давно освоены Эллой и никуда не исчезли из привычного распорядка.
Тем ярче и фантастичнее выглядела для нее картина официальной придворной жизни, когда приведенную в большой зал ее ставили рядом с многочисленными кузенами и кузинами, титулованными дядями и тетями, знатными лордами и леди, рыцарями Подвязки и кавалерами Бани, министрами и дипломатами. В нужный момент все это пышное общество благоговейно замирало и в распахнутых дверях появлялась Божией милостью Королева Великобритании и Ирландии, Императрица Индии и Защитница Веры. Одетая, как всегда, в черное в знак бесконечного траура по мужу, она медленно проходила мимо пестрой толпы, всем своим видом олицетворяя могущество державы, подчинившей себе пространство и время. Среди лиц, выражавших ей почтение, Елизавета замечала даму в неимоверно красивых драгоценностях, вызывавших вокруг завистливый шепот. Это была «тетя Мэри», герцогиня Эдинбургская, вторая невестка королевы. Ее гордый вид и ни с чем не сравнимые украшения объяснялись просто – герцогиня была дочерью русского царя. И в голове юной гессенской принцессы невольно возникало смутное представление о далекой таинственной России, лежавшей где-то в снегах и чем-то сильно пугавшей обитателей Туманного Альбиона.
Тогда на память приходили собственные впечатления: приезжавшая в Дармштадт царица, такая добрая, сердечная. И сопровождавший ее сын, так понравившийся «кузен Серж» – приятный юноша с тонкими чертами, безупречными манерами и серьезными знаниями, а еще с какой-то загадочной грустью в глазах – то ли от воспоминаний, то ли от предчувствий…
2. Избранник сердца
Пятый сын императора Александра II, Великий князь Сергей появился на свет в Царском Селе 29 апреля 1857 года, в понедельник четвертой недели по Пасхе. Был самый разгар весеннего пробуждения природы, ярко раскрасившей дворцовые парки. Но солнечные дни уже затемнялись порой первыми грозовыми тучами. В воздухе повисала напряженность, а в людей вселялось какое-то волнение, возрастающее с каждым раскатом грома…
Императорская чета проживала в своем любимом Зубовском флигеле, принадлежавшем ей со дня свадьбы. Каждый раз она переселялась сюда с большим удовольствием, находя здесь возможность для относительного уединения и тесной семейной жизни. Здесь же родилось трое из шестерых ее детей, чьи портреты украшали кабинет Государя в нижнем этаже. Печально, что первая девочка, Александра (Лина), умерла в семилетнем возрасте, но четверо сыновей и младшая дочь составляли истинное счастье родителей. Ныне в этом тихом уголке Большого дворца к ним должен был присоединиться новый малыш, и лейб-медик К. Гартман все чаще поднимался в бывшие покои Екатерины II, где жила императрица Мария Александровна.
Очередные роды, случившиеся на две недели раньше ожидаемого срока, прошли очень тяжело. Целые сутки императрица провела в муках, стойко перенося сильнейшие боли. Окружающие усердно молились о благополучном исходе, в изголовье Марии Александровны поставили икону Рождества Богородицы; Царские врата в придворных церквях, Знаменской и походной, открыли, как на Светлой седмице. Наконец в четверть девятого пополудни раздался первый крик младенца, и духовник Императорской семьи отец Василий Бажанов поспешил отслужить благодарственный молебен. Жителям столицы о радостном событии возвестил триста один пушечный выстрел.
Новорожденного окрестили в Духов день. В церковь его внесла на подушке статс-дама княгиня Е. Салтыкова. Восприемник – цесаревич Николай Александрович – с большим достоинством и умением исполнил обязанности крестного отца. Восприемницей стала Великая княгиня Екатерина Михайловна, племянница Николая I. По традиции были назначены и многочисленные почетные крестные, не присутствующие на обряде. Все прошло с подобающей торжественностью, немного нарушенной лишь громким криком младенца при погружении его в купель и миропомазании. Пронзительный голос малыша усилили и отразили своды и стены храма, с которых святые лики испытующе взирали на того, кто в эти минуты вместе с маленьким нательным крестиком принимал на себя тяжелейший крест судьбы.
Новый член Императорской Фамилии получил имя Сергей. Таким было желание родителей, посвятивших сына преподобному Сергию Радонежскому. Мальчик был их порфирородным первенцем (то есть первым ребенком, родившимся после восшествия отца на престол), а потому воспринимался как некий знак, как благословение свыше и по тайному обету царской четы еще до появления на свет был вверен молитвам святого игумена Русской земли.
Когда Сергею исполнилось три года, заботы о нем были поручены Анне Федоровне Тютчевой. Она уже проявила недюжинные педагогические способности при воспитании единственной дочери в Царской семье. Полученный при этом опыт помог ей со всей ответственностью и серьезностью взяться за новое поручение, а вскоре ее попечению доверят и родившегося в сентябре 1860 года Великого князя Павла – последнего ребенка Александра II. Рачительная и экономная, Тютчева оградила младших детей императора от излишеств, с большим тактом готовя их к будущему долгу и ответственности. В первые шесть месяцев расходы на Сергея она сократила вдвое, а оплату связанного с ним транспорта – почти в десять раз! И в дальнейшем мальчик должен был приучиться к скромности, терпимости, аккуратности. От воспитательницы он узнавал, как проявляются в жизни христианские добродетели, навсегда запомнив, что ни один человек не свободен от житейских трудностей. Однако главное значение воспитательной работы Тютчевой заключалось в привитии подопечным некоторых собственных убеждений. Дочь известного поэта, Анна Федоровна выросла в атмосфере его глубоко национальных и славянофильских идей. Многое она почерпнет и в московских кружках славянофилов, став активной проповедницей идеи особой исторической миссии России. Религия и мистицизм также являлись краеугольными камнями в ее взглядах на жизнь, политику, на сущность русского Монарха.
29 апреля 1864 года семилетнему Сергею был назначен наставник – флотский офицер, капитан-лейтенант Дмитрий Сергеевич Арсеньев. Представитель старинного дворянского рода, давшего Отечеству видных военных, ученых, администраторов и литераторов, а также связанного семейными узами с известными фамилиями (Меншиковых, Лермонтовых, Столыпиных), Дмитрий Сергеевич и сам был личностью незаурядной. Смелый, честный, высококультурный, он стремился привить воспитаннику большую любовь к родине, развивал в нем с юных лет понятие чести и, готовя его к исполнению долга, особое внимание обращал на вопросы нравственности. Вначале появление нового воспитателя испугало Сергея – мальчик решил, что теперь у него отнимут игрушки и лишат его привычных радостей. Особенно не хотелось расставаться с любимыми «мопсами» – фарфоровыми собачками, из которых составилось целое «общество». Но вскоре он успокоился, незнакомый офицер оказался совсем не страшным. Даже наоборот – читал вслух книжки, рассказывал интересные истории, объяснял непонятные вещи и вовсе не запрещал игры. Постепенно Сергей проникся к своему наставнику доверием и со временем искренне привязался к нему.
Они беседовали на самые разные темы, разбирая прочитанное или увиденное, однако главным в таких разговорах оставался вопрос об ответственности, лежащей на каждом человеке, и в особенности на сыне русского государя. Дмитрий Сергеевич объяснял, почему народ становится на колени при проездах царской фамилии, кого видят и почитают люди в лице Августейшей семьи и каковы должны быть поступки тех, кто имеет честь к ней принадлежать. Одновременно наставник придумывал педагогические приемы, с помощью которых стремился искоренить некоторые недостатки в характере воспитанника, в частности его упрямство. Так, однажды в комнате царевича появился кукольный театр, и в главном персонаже представлений, маленьком Ванечке, Сергей без труда узнавал самого себя. Заливаясь слезами стыда за свое недавнее поведение, юный зритель обещал незамедлительно исправиться.
О занятиях с Великим князем Арсеньев регулярно докладывал императрице. Для ее удобства он стал вести специальные дневники, знакомясь с которыми, Мария Александровна могла не только следить за воспитанием сына, но и принимать в нем более активное, чем позволял этикет, собственное участие. Словом, рекомендовавшая наставника Тютчева не ошиблась в выборе.
С наступлением совершеннолетия Сергея Александровича Арсеньев будет назначен его попечителем, что ознаменует новый шаг завершившего образование царевича в самостоятельную жизнь. Но этому этапу предшествовал весьма длительный период обучения, план которого, как принято, поручили составить воспитателю, а курсы читаемых наук определили приглашенные учителя. Из них в первую очередь необходимо обратить внимание на Константина Петровича Победоносцева, преподававшего Сергею энциклопедию права. Великий князь с детства хорошо знал и любил этого замечательного ученого и государственного деятеля, стойкого борца за упрочение национальных и религиозных устоев русского общества. К. П. Победоносцев преподавал в Царской семье с 1861 года, и среди его слушателей был будущий император Александр III, который положит многие заветы учителя в основу своей политики. Как и старший брат, Сергей с большой отзывчивостью воспринимал лекции мудрого правоведа, только теперь уроки проходили на фоне кипящей за окнами дворца политической жизни семидесятых годов с общественным раздражением на всех и на всё, с периодическими выстрелами и взрывами террористов. В этой раскаленной атмосфере начали выплавляться собственные политические взгляды царевича.
Когда же в 1880 году Победоносцев возглавит Святейший синод, Великий князь воспримет новое назначение учителя с радостью, а в двадцатипятилетнем руководстве Константином Петровичем делами Русской церкви увидит достойный пример несения тяжелого креста во имя торжества истины. Следуя тем же путем, Сергей Александрович всю жизнь будет помнить завет наставника, полученный в день своего совершеннолетия – никогда не забывать о высокой личной ответственности, о самопожертвовании. «Где всякий из граждан, частных людей, – наставлял Победоносцев, – не стесняет себя, как частный человек, там Вы обязаны себя ограничивать, потому что миллионы смотрят на Вас как на Великого князя, и со всяким словом и делом Вашим связаны честь, достоинство и нравственная сила Императорского Дома».
Сложные вопросы политэкономии Сергею преподавал Владимир Павлович Безобразов, видный экономист, публицист, педагог. Широко образованный специалист, академик, сторонник реформ и противник радикализма, он сумел увлечь Великого князя, казалось бы, скучными вопросами о производстве, распределении и стоимости продукта. Вместе с учителем Сергей Александрович стал посещать и так называемые «экономические обеды», игравшие роль своеобразного политического клуба. Заметим, что в отличие от бывавшего на тех же собраниях и познававшего механизм экономики цесаревича, Сергей не готовился к престолонаследию – его интерес к таким проблемам, вышедший за рамки ознакомительного обзора, можно объяснить лишь желанием как можно лучше узнать свое Отечество, через всесторонний сравнительный анализ понять, что такое Россия.
Поскольку традиция воспитания Великих князей уделяла особое внимание военным наукам, Сергей Александрович прослушал объемный цикл соответствующих лекций. С искусством стратегии и тактики его познакомили выдающиеся русские военные теоретики. Это Генрих Антонович Леер, профессор, автор крупных научных трудов, а также Михаил Иванович Драгомиров, золотой медалист Академии Генштаба, профессор, знаток устройства иностранных армий, сторонник развития в вооруженных силах нравственного фактора. Последний был преподавателем и двух старших братьев Сергея. Курс военной статистики прочитал профессор Николаевской академии Генштаба Павел Львович Лобко, секреты фортификации раскрыл Цезарь Антонович Кюи, выпускник инженерной академии, профессор, более прославившийся как талантливый композитор.
Важным аспектом образования было изучение иностранных языков. Помимо усвоения классической латыни Сергей в совершенстве овладел немецким, английским и французским. На последнем он легко и с удовольствием общался, а своего учителя, Льва Федоровича Лакоста, неизменно числил среди близких людей. В будущем этот умный и милый француз удостоится чести сопровождать Великого князя во время его сватовства, после чего, понравившись и Елизавете Федоровне, месье Лакост станет всегда желанным гостем в доме любимого ученика и его очаровательной супруги.
Конечно, в ходе обучения не были забыты словесность, чистописание, рисование, музыка, гимнастика, танцы и верховая езда. Однако вместе с учебой на Сергея вскоре легла и другая обязанность – как члену императорской фамилии ему надлежало принимать участие в официальных церемониях, присутствовать на парадах, совершать поездки с родителями, встречать посетителей. Здесь имелась своя наука. «Великому князю, – вспоминал один из учителей, – делалась специальная репетиция предстоящего приема. Ему объяснялась не только серьезность того, о чем будут просить или что будут говорить представляющие ся, но давались особые объяснения о том: каково социальное положение представляющихся, о чем следует примерно спросить или говорить с ними, – оттого представляющиеся уходили под впечатлением не только доступности и любезности князя, но и обширности его ознакомленности со всеми сторонами русской жизни». В таких случаях занятия, направленные как раз на эту «ознакомленность», приходилось прерывать, отчего порой страдало качество уроков.
Тем не менее Сергей учился хорошо и достаточно ровно, о чем свидетельствует его сохранившийся дневник – балльник за 1873–1874 годы. Но, как и любой учащийся, Великий князь по-разному воспринимал читаемые ему дисциплины. Абстрактные понятия, равно как и бездушные теоремы, не находили в нем отклика. Зато гуманитарные предметы, рисующие яркую картину жизни, увлекали по-настоящему. С особенным удовольствием он занимался русской историей, курс которой читал Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Выдающийся ученый отличался строгим критическим подходом ко многим теориям и течениям, убедительно доказывая жизненное значение для России самодержавной власти. В Царской семье его слушателями были и цесаревич Александр, и Великий князь Константин Константинович. Зимой 1876 года несколько лекций Сергею Александровичу прочитал корифей исторической науки Сергей Михайлович Соловьев, сделавший упор на освещении военных событий.
И все-таки именно К. Н. Бестужев-Рюмин развил в Сергее глубочайший интерес к родной старине. Видя, что Великий князь пытается добраться до самых истоков русской государственности, историк инициировал его поездку в северо-западные губернии, туда, «откуда есть пошла Русская земля». Руководить экспедицией, организованной в 1878 году, доверили графу Алексею Сергеевичу Уварову, крупному специалисту по археологии, недавно познакомившему с ней Великого князя. Ученый с радостью откликнулся на предложение. «Как отрадно видеть, – писал он Арсеньеву, – что ни шум, ни развлечения боевой жизни не могли изгладить из Его (Сергея Александровича. – Д. Г.) сердца… намерение изучать нашу дорогую родину в ее быте и памятниках. Такие серьезные направления в воззрениях молодого человека делают… Ему честь». И вот во всем своем древнем величии перед Сергеем предстали Новгород и Псков. Что за места! Святая София, Рюриково городище, Юрьев монастырь, суровый Псковский кремль. А какая природа, какие живописные просторы – сила, воспитавшая истинно русский дух! А какие имена приходят здесь на память: легендарный Рюрик, вещий Олег, святая равноапостольная Ольга, святой Александр Невский! Сергей увлеченно знакомится с историческими памятниками и даже включается в проводящиеся раскопки – в Изборске, в окрестностях Пскова, на берегу озера Ильмень.

