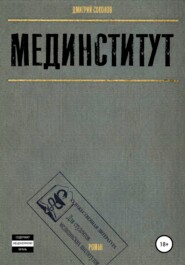
Полная версия:
Мединститут
– А, распиваете, значит, всё с вами ясно. Вася Иванов им – нет, это мы на улице собираем, чтоб потом сдать, деньги нужны. Те нам – а ну, дыхните. Да пожалуйста. Хорошо, мы ещё не начинали, за водкой Толик как раз перед этим пошёл. А Мюллер нам, такой – нет, вы все пьяны! Мы – почему? А Жорик, такой, нам – запах алкоголя изо рта! Мы – нет у нас никакого запаха. Если так, то давайте на экспертизу, мало ли, что вам покажется. Вы вот сами с запахом! Шумели, шумели, всё равно всех переписали…
– Надо было дверь не открывать, будто вас дома нет, – посоветовал Антон. – Взламывать не имеют права!
– А толку-то, – уныло произнёс Агеев. – Соседи вон, Костик и Митяй, так и сделали. У них как раз баба была посторонняя. Сидели тихо и не открывали Так они что сделали – двери им опечатали. Теперь не выйдешь. А если дверь тебе опечатали, то открывать можно только с комендантом или с председателем студсовета. Так утром Митяй с Костиком по пожарной лестнице в окно вылезли вместе с бабой… А ночью ссали в банку по очереди…
– Чёрт знает что делается, – скривился Булгаков. – Комсомольский произвол. Жаловаться надо…
– Кому? Валить надо с этой общаги, пока не поздно. Пока её в казарму не превратили. Жениться, что ли? Достало всё это, хочется покоя и тишины, – вздохнул Ваня. – Первый курс ещё ладно, но когда до диплома всего ничего, ещё влипнуть не хватало… Ты-то как, не попался «Комсомольскому прожектору»?
Антон ответил отрицательно. Рассказывать о стычке с Чугуновым не хотелось, вспоминать о вчерашнем приключении с Наташей тем более. Да и что тут такого, особенного – из таких эпизодов в основном и состояла жизнь.
Дальше ехали в полном молчании. У Десятой больницы была конечная, и оба вагона довольно дружно саморазгрузились. Тут были уже одни медики. Многие оглядывались в поисках своих, узнавали друг друга, улыбались, соединялись по нескольку человек, на ходу делясь новостями, заряжаясь друг от друга оптимизмом и весёлостью.
Надя в общей массе выдавилась из трамвая, огляделась вокруг и увидела Галку Винниченко, та ехала в хвосте вагона. Подруги радостно улыбнулись, посетовали на давку, поправили причёски, подкрасили губки и пошли по широкой аллее к больничному корпусу. Галя спросила, предварительно оглянувшись по сторонам хорошенько, чем закончилась вчера её история с Говоровым. Надя вздохнула и многозначительно взглянула на подружку.
– Жалко его стало, – с неохотой призналась она. – Я, конечно, не вчера родилась, и на такие крючки меня не поймаешь, но…
– Так вы чё делали-то? – сгорая от любопытства спросила Галя. Они с Валькой Кравцовой вчера успели втиснуться в трамвай и уехать, оставив Надю на остановке со столь навязчивым молодым человеком.
– Пошли в кино, – пожала Надя плечами. – «Письма мёртвого человека». Ушли с середины, поехали к нему на дачу. Потрахались. Он меня домой проводил. Вот, всё, ничего не забыла.
– И что теперь? Ведь он же…
– Женится, женится, – закивала головой Надя. – Я твёрдо дала ему понять, что у нас это было в последний раз, и чтобы он теперь от меня подальше держался, если не хочет, чтоб его невеста об этом узнала.
– А зачем тогда с ним ехать-то было? Если знаешь, что ничего больше не будет. С бесперспективным таким…
Галя была несколько наивнее и, как она считала, «порядочнее» подруги. С одной стороны она завидовала Надиной свободе распоряжаться собой и не терять зря времени, если рядом есть тот, кто нравится. С другой стороны, она осуждала Берестову за легкомысленность, за то, что ей не хватает самоуважения. Какое чувство было сильнее из этих двух, она не знала, но смутно чувствовала, что, как только поймёт, дружба с Берестовой сразу прекратится.
– Да так… Над благоразумием верх взяла романтическая сторона моей натуры, – ответила Надя какой-то цитатой из какой-то классики. – Вот и устроила ему небольшой мальчишник. Ты-то как, подруга? Что твой-то, встречаетесь?
Галя последний год сильно увлеклась Виктором Козловым, студентом Политехнического института, кандидатом в мастера спорта по фехтованию. Они встречались почти каждый день, были вхожи друг к другу в дом, нравились родителям. В следующем году молодые люди заканчивали учёбу в своих институтах и получали дипломы, потом предстояло распределение и трудоустройство. Обстоятельства складывались так, что нужно было на что-то решаться именно сейчас.
– Молчит пока, – отозвалась Галя и посмотрела в сторону. То, о чём пока молчал её парень, видимо, было очень важным.
– Что-то Витюша твой, я смотрю, настроился в молчанку играть всерьёз и надолго, – проницательно заметила Надя. – Сама с ним поговори.
– Я? Первая? Ты чего, Надь. С каких это пор девушка первая…
– Ой, Винниченко, ты давно такая принципиальная? А кто за Климом по всему институту бегал? Записочки кто писал?
– Надь, ну ты тоже сравниваешь… Кто Клим, а кто Витя? И не бегала я за ним…
– Не вижу особой разницы. Надо уже подводить коня к водопою.
– Почему «уже»?
– Скоро распределение, времени всё меньше остаётся. Сама смотри- тебя, конечно, в городе оставят, минимум в консультации, а может, и в отделении у Сумароковой…
– С чего ты взяла?
–У тебя же тётушка в ЦУМе. Уж кого-кого, а гинекологов она тут всех знает. Не так?
– Ну, не до такой прям степени.
– Ну, неважно. В любом случае, ты в городе останешься. Приткнут тебя куда-нибудь на первых порах. А его как раз и распределят куда-нибудь на БАМ или на любую комсомольскую стройку в районах Крайнего Севера. У Козлика ж родители простые советские, живут на зарплату и очень этим гордятся, блата нет. С ним же не поедешь?
– Может, и не распределят ещё. Он спортсмен…
Надя вздохнула покровительственно.
– Винниченко, ты газеты читаешь? Хотя бы на политинформации ходишь? Ты вообще слышала, куда наших хотят отправлять в этом году? В Узбекистан!
– Да ну.
– Баранки гну. Так что думай сама быстрее, на него надежда плоха. Скажи ему, что залетела…
Тут подружки поднялись по лестнице в обширного вестибюль больницы и прекратили рискованный разговор.
Иконописный рабочий на плакате всё с таким же искренне-комсомольским выражением лица всё так же мечтал об оправдании доверия XXVII съезда.
XXIII«Со времени апрельского Пленума ЦК КПСС, когда на партийных собраниях разговоры стали посерьёзнее, попринципиальнее, когда все чаще тот или иной коммунист встаёт и спрашивает- «почему?»– работники обкома с этих пор и перестали ходить к нам на партийные собрания»
(Из советской печати, октябрь 1986 года)
В 8.30, как уже говорилось, по всем четырём хирургическим отделениям клиники проходили свои пятиминутки, когда отчитывались ночные сёстры и дежурные врачи. Решив наскоро внутриотделенческие проблемы, хирурги к 9.00 собирались в конференц-зале для проведения общеврачебной кафедральной конференции. Антон Булгаков не стал подниматься во 2-ю хирургию, а сразу пошёл в зал. Он принципиально решил первым занять вчерашнее место. Своему утреннему туалету он тоже уделил больше внимания, чем обычно, тщательно побрился и даже опрыскался одеколоном «One man show».
Одеколон был импортный, страшно дефицитный, дорогой – этот флакон родители привезли из Москвы больше года назад, где купили его у спекулянта за 10 рублей. Пах одеколон здорово, не идя ни в какое сравнение ни с «Шипром», ни с «Тройным», ни с «Горной лавандой». Антон тщательно экономил его и пользовался чрезвычайно редко.
«Крупскую» со своей коротконогой подружкой (нужно сказать, что Галя Винниченко была несколько неуклюже сложена и сильно проигрывала Наде, у которой не было проблем со своей внешностью. Впрочем, одевалась первая намного лучше) он заметил ещё в трамвае, потом те вышли, встретились, начали охать, ахать, и остались далеко позади их с Агеевым, так что он уверенно опережал гинекологов. Вскоре те показались в дверях, осторожно пробрались по тесному ряду и сели.
Булгакову был подарен надменный и недоуменный взгляд, не более.
«Что же это со мной? – подумал Антон. – И куда меня ведёт подсознание? Чего это я сел сюда, вдали от группы? Вчера мест не было, а сегодня?»
Он боковым зрением оглядел сероглазую студенточку, сидевшую слева. Берестова была не из тех девушек, которые сражают воображение сразу. Ничего такого рокового или трагически-магического, ничего таинственного и особо загадочного в ней не было. Это была вполне обыкновенная советская девушка – весёлая, жизнерадостная, компанейская. Ей очень шло быть студенткой мединститута и носить белый халат с белой шапочкой, из-под которой слегка выбивалась каштановая чёлка. На коллективных снимках группы и курса она ничем не выделялась из массы других медичек. Берестова не чуралась компанейских застолий, курила, смеялась анекдотам «про поручика Ржевского», употребляла нецензурные слова, никогда не была активисткой и в комсомоле состояла так сказать, для статистики. Училась она сильно, но и отличницей никогда не была, и выше твёрдой «хорошистки» не поднималась.
Всё это Антон знал, со всем был согласен, и ничего хорошего, кроме плохого, к портрету однокурсницы прибавить не мог.
«На что я рассчитываю? – спросил он себя. – Аутоспермотоксикоз замучил? Так, вроде, вчера разгрузился…»
Нужно было хоть поздороваться, хоть что-то сказать – в конце концов, у них нет никакой причины быть врагами – но решиться на то, чтобы издать хоть звук в адрес беззаботно смеющейся соседки Булгаков ни за что не смог бы. Он вздохнул и решил больше никогда сюда не садиться.
Время подходило к девяти часам, и зал быстро заполнялся. Протиснулся в дверь и уселся на второй ряд массивный Гиви Георгиевич. Не торопясь пробрался в середину четвёртого ряда клинический ординатор Горевалов. Открытое лицо его говорило о полном довольстве жизнью и о скрытых возможностях, которые будут обнаружены в своё время. По пути на место он пожал несколько рук, их тянули к нему со всех окрестных рядов. Антон ещё раз удивился – клинический ординатор всегда был ненамного выше, чем студент, штатные хирурги относились к ним свысока и никогда не спешили с приветствиями. Пётр Егорович и сидел среди хирургов как равный, хотя в должности был всего три месяца, а другие клинординаторы, даже второго года, занимали места намного дальше от сцены.
Показался Самарцев и сразу юркнул на первый ряд. Булгаков вспомнил его совет извиниться и нахмурился. Антон всё не видел среди собравшихся своего «сэнсея» и очень волновался. Тот появился одним из последних, его высокая сутулая фигура протолкалась сквозь остановившихся нерешительно у двери новеньких пятикурсников и заняла место в седьмом ряду. Булгаков вздохнул с облегчением.
XXIV«Мы часто говорим о том, насколько могущественными сделала людей изобретённая ими техника. И упускаем из виду, что та же техника придала разрушительную силу и их ошибкам. Халатность или неумение даже одного человека могут привести к таким непредсказуемым последсвтиям, ликвидация которых потребует героических усилий сотен специалистов и колоссальных материальных затрат»
(Советская печать, октябрь 1986 года)
Наконец на сцене появился профессор Тихомиров, член-корреспондент АМН СССР, и шум в зале сразу же стих. Надя с любопытством смотрела на этого «корифея», которого положено теперь было называть «академик», хотя сам Тихомиров терпеть этого не мог и всем говорил, что академик – это Действительный член. Но всё равно, во всём К… он был единственный учёный, удостоенный этого звания, и он преподавал в мединституте. Каждый первокурсник знал о том, что среди профессорско-преподавательского состава есть членкорр и преисполнялся гордости за свой вуз.
Всеволод Викентьевич был седой, очень благообразный, но и очень старенький. Даже с задних рядов были видны глубокие морщины и та особая прозрачность век и щёк, с появлением которой пол уже не является чем-то важным для человека. Тихомиров был среднего роста, сухонек, худенек, имел ещё все волосы, но зубы уже носил явно искусственные. Взгляд его был нетороплив, глубок, и проницателен; его мало кто из нижестоящих выдерживал долго. Двигался и держался профессор довольно бодро.
– Здравствуйте, товарищи. Начнём, пожалуй, – объявил он довольно тихо, но так, что услышали все. – 1-я хирургия.
На трибуну (так и хочется сказать- на сцену) вышел огромного роста доктор с буйной шевелюрой и волосатыми ручищами. Толстые щёки и выдающийся вперёд маленький, но твёрдый подбородок делали его внешность заметной и запоминающейся с первого взгляда. Вообще, многие хирурги выглядели даже колоритнее самых известных киноактёров советского экрана. Приятные издержки профессии – быть всё время «на людях»… Неторопливо озирая зал и изредка оглядываясь на профессора, дежурный хирург сочным, рокочущим голосом начал докладывать. Надя толкнула Галку.
– Вот ядрёный мужик, – прошептала она. – Такому бы в опере петь или проповеди читать.
Серёжки Говорова не было сегодня впереди, да и никого знакомых вокруг не было, поэтому она решилась спросить у Булгакова:
– Слышь, а кто это? Ты тут всех знаешь…
– Крамаренко,– поперхнулся тот от неожиданности, – дежурант из 1-й хирургии. Так себе хирург, ничего особенного…
– …была проведена инфузионная терапия. К утру появилась перистальтика, отошли газы, – вещал Крамаренко, очевидно, сам первый с удовольствием слушая свой раскатистый баритон. – Наутро: состояние удовлетворительное, жалобы на лишь периодически возникающие боли в мезогастрии…
– Чем было продиктовано решение вести больную консервативно? – вдруг раздалось из-за спины хирурга. Голос профессора был начисто лишён обаяния и на фоне впечатления от речи Крамаренко прозвучал грубо и резко.
Черноволосый дяденька замолк и всем корпусом повернулся к Тихомирову.
– В процессе динамического наблюдения и лечения ex juvantibus, – мягко ответил он, – имела место положительная динамика. Эпизод кишечной непроходимости удалось разрешить и восстановить пассаж…
– Из вашего рассказа, Сергей Михайлович, так не следует. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что вы лишь временно нормализовали состояние поступившей тем, что назначили ей инфузионную терапию. Благополучие, о котором вы сейчас говорите- мнимое. Контрольный барий давали?
– Давали…
– Когда?
– В полночь…
– То есть?
– В 24.00…
– Тогда где же контрольный снимок брюшной полости?
– При мне делали, Всеволод Викентьевич.
– А почему результатом не поинтересовались?
Крамаренко пожал широкими плечами, улыбнулся в зал, приподнял одну бровь.
– Вы же знаете наши проблемы, Всеволод Викентьевич. Санитарок в отделениях нет, сестра хорошо, если есть одна на два поста, по уши занята сдачей смены… нам послать за снимком некого, им со снимком прислать некого. Рентгенлаборант на всю клинику один. А утром, перед пятиминуткой, дежурный хирург настолько загружен, что самому сходить просто некогда. Разумеется, я понимаю, насколько важен нам снимок. Сразу после конференции…
– Сергей Михайлович! – возвысил голос Тихомиров, не давая себя убаюкать. –Речь идёт о жизни и смерти человека. В экстреннной хирургии всё решают порой минуты. Вы сдаёте дежурство и даже не знаете результатов контрольного исследования!
– Санитарки…
– Ну мы же не дети. За свою больную отвечаете именно вы. Я не могу принять у вас дежурство без результата снимка.
Крамаренко снова улыбнулся. Улыбка, которая столь шла ему, получилась несколько асимметричной – было видно, что хирург раздражён придирками Тихомирова.
– Хорошо, раз так, – сдался он, высмотрев кого-то в зале, – Игорь, будь добр, сбегай в рентген, принеси нам снимок. Пусть все посмотрят…
Один из молодёжи, сидевший в ряду клинических ординаторов, снялся с места и исчез за дверями. В зале зашептались. Крамаренко покинул трибуну и спустился со сцены. Чувствовалось, что этот большой человек сильно задет.
На трибуну поднялся пожилой доктор Пашков из 2-й хирургии. Он сильно волновался, докладывая. По сторонам не смотрел, не отрывался от историй. Тихомиров лишь что-то неразборчивое спросил его о каких-то лейкоцитах в два часа ночи. Пашков, лысый, крепкий, бульдожьего вида ветеран, моментально покраснел и начал копаться в историях, ища анализ. Тот всё не находился, дежурный хирург нервничал. Ему на помощь пришёл Гиви Георгиевич. Он поднялся с места и сам ответил на вопрос профессора. Тот кивнул, наконец принимая дежурство.
Пашков, вытирая лысину платочком, покинул трибуну, уступая место представителю 3-ей хирургии.
Напряжение в зале нарастало. Член-корреспондент вёл конференцию совсем не так, как вчера Самарцев. Тихомиров удобно посиживал за столом, посматривал то в зал, то на выступающего. Вид его был исполнен благожелательности и спокойствия, даже лёгкой дремоты. Но ясно было, что видит профессор всё в зале, слышит каждый звук, держит под контролем происходящее, что именно он по праву является мозговым центром клиники, что напоминает он сейчас собою старого полководца на поле боя, к которому периодически подскакивают адъютанты. Торопливо отдав честь, они докладывают обстановку и ждут распоряжений. Получив их, они тут же срываются с места и спешат в самое горнило сражения, неся войскам приказы, директивы, диспозиции. А самое главное – уверенность в победе.
3-я хирургия отчиталсь быстрее. Там «сдавался» какой-то молодой и толковый, речь шла всего о двух больных, поступивших у него на дежурстве, те были простенькие, не «дискутабельные», профессору, видимо, лень было тратить порох на такие пустяки, и дежурство было легко принято. Издав слышный всему залу вздох облегчения, молодой хирург подхватил истории, и, не чуя ног от радости, сбежал со сцены. Соседи всерьёз поздравляли его, пожимали руки, хлопали по спине.
На 4-й хирургии конференция опять застопорилась. Там поступал какой-то сложный гнойник. Хирург, докладывая, сильно волновался, что-то мямлил, так, что никому ничего слышно не было. Тихомиров несколько раз переспрашивал. Потом начал задавать вопросы. Ничего, на взгляд Нади, особо каверзного в них не было, на половину она и сама бы точно ответила. Но мямля совсем струхнул, растерялся и долго собирался с мыслями. Ему на помощь пришёл заведующий, но профессор теперь так легко не отпускал, задавая дополнительные вопросы, этот раз очень сложные. Аудитория начала шуметь. Разговор на сцене уходил куда-то в сугубо теоретическую область и терял актуальность. Тем более, что посланец уже вернулся из рентгенкабинета и стоял в дверях с мокрой «брюшной полостью» на рамке. Его уже все увидели и смотрели только в его сторону, не обращая внимания на профессора.
Тихомиров увидел это и сам, отпустил 4-ю и пригласил Игоря на сцену. Зал моментально затих, абсолютно все взоры устремились туда. Сидевший до сих пор неподвижно Крамаренко занервничал, несколько раз шумно повернулся на стуле. И лицо, и шея его стали багроветь, хотя он изо всех сил старался этого не показывать. Клинический ординатор пристроил снимок на экране негатоскопа- это такой прибор типа лампы дневного света, предназначеный для изучения рентгенограмм в его лучах.
Всеволод Викентьевич встал с места, сам воткнул вилку в розетку и щёлкнул выключателем. Экран засветился, и на снимке стало видно всем переплетение кишок, чередование белых и тёмных пятен. Наде с заднего ряда было плохо видно, да и не ориентировалась она в снимках. Зато Булгаков изо всех сил вдавил в переносицу дужку очков, сощурился и максимально вытянул вперёд шею. Зал громко загудел. Многие привстали.
– Итак, кому непонятно, – зазвучал ровный голос Тихомирова, – показываю. Вот уровни жидкости. Вот две чаши Клойбера. Вот основная масса бариевой взвеси, скопившаяся перед препятствием. Вот паретичная петля двенадцатиперстной кишки. Всем видно? Я думаю, на этом можно закончить. Вопросы? Что, нет вопросов? Да, полагаю, всё ясно по этой больной. В одиннадцать – обход во 2-й хирургии, – возвысил он голос. – Приглашаются все желающие. Всё, товарищи, расходимся по рабочим местам…
Зашумевшая во весь голос масса хирургов и студентов повалила на выход. На заднем ряду все встали и терпеливо ждали, пока освободится проход.
– Слышь, – тихо спросила Надя у Булгакова, – а что такое «чаши Клойбера»?
– Стопроцентный рентгенологический симптом кишечной непроходимости, – ответил тот. – Там плохи дела, Крамаренко-то «зевнул непроход». Больную ещё при поступлении «брать» надо было…
– Так там что – всё же непроходимость? И не диагносцировали?
– Она самая. Тихомиров ещё по его рассказу заподозрил. А обул-то Михалыча как! Как пацана. Хоть тот двадцать лет работает. Вот так – фирма веников не вяжет…
XXV«Бюро горкома ВЛКСМ отметило, что в статье поднят вопрос о неудовлетворительной организации досуга молодёжи в городе Ржеве, бесконтрольности и отсутствию воспитательной работы со стороны комитетов комсомола в подростковых клубах по месту жительства»
(Советская печать, октябрь 1986 года)
После столь бурно прошедшей конференции Аркадий Маркович собрал обе свои группы. Быстренько сделал перекличку. Присутствовали все. Судя по лицам, взбудоражены. Да, умеет Всеволод Викентьевич произвести эффект. Дешёвый эффект…
– Так, доктора… – привычно начал Самарцев. – Во- первых, по поводу этой кишечной непроходимости…
Он помедлил. Лица студентов были обращены к нему тревожно. Что делать? Тихомиров – его руководитель. Но и так больше нельзя. Сегодня он топчет Крамаренко, а завтра? Сколько можно отмалчиваться…
– Вот такое это коварное заболевание, – решился он, поправив пальцем очки.– Встречается очень и очень часто, но распознаётся с трудом. Иной раз даже специалистами со стажем. Я думаю, что те, кто присутствовал на конференции, вынесли сильное впечатление. Настороженность всегда должна иметь место, и это наглядно показывает, насколько трудна и ответственна работа хирурга. Это один аспект. Второй…
Самарцев снова помедлил. Он ещё никогда не позволял себе высказывать разногласия с шефом. Тихомиров был слишком крупной величиной, чтобы хоть посметь усомниться в его всегдашней правоте. Правоте во всём. Да, диагност он мощный, но нельзя же так обращаться с коллегой. Его высокомерные штучки в многолюдной аудитории совершенно нетерпимы. Иллюзионист, старый циркач. Как говорится, доколе? Ведь сегодня ещё и обход. А там этот огнестрельный… В конце концов, ведь плюрализм…
– Второй аспект, – сглотнув слюну, заговорил Самарцев, не глядя на студентов, – это аспект медицинской этики и деонтологии. То, о чём мы вчера здесь говорили. Ошибки возможны у каждого. Ни один практикующий хирург не застрахован от них. Никогда не застрахован. Ошибки в экстренной хирургии особенно досадны, и, как справедливо заметил Всеволод Викентьевич, могут стоить больному жизни. Это общеизвестно.
Самарцев снова помолчал. На этом можно было закончить комментарий. Пожалуй, он достаточно ясно дал понять, что весьма сочувствует Крамаренко. Осталось отделить свою позицию от позиции шефа. На глаза Аркадию Марковичу попался Булгаков. Он сидел прямо и пристально глядел на преподавателя. Лицо студента было напряжено, а взгляд осмыслен до предела. Казалось, тот очень хорошо понимает, о чём пытается сказать – или умолчать – доцент. Это особо контрастно чувствовалось на фоне всех остальных 25 человек. Те тоже прилежно следили за Самарцевым, кое-кто даже записывал, но и лица, и позы у всех были вполне ученические, некритичные.
– Разумеется, любая ошибка врача – повод для серьёзного разговора, – решился он продолжить мысль. – И никто тогда не бывает беспощаднее, чем коллеги. Нам всем здесь чужды мягкотелость и слюнтяйство. Те, кто уже участвовал в кафедральных клинразборах, знают, каково на них приходится тому, кто допустил оплошность. Так что здесь вопрос не в том, подлежит ли врачебная ошибка гласности. Она однозначно подлежит, и не только в хирургии. Сейчас наступает такое время, когда…
Самарцев снова остановился. Кажется, сейчас его понесёт на просторы политинформации, и он начнёт долго и красиво говорить о перестройке, демократии, новом мышлении. Группы его внимательно выслушают, Булгаков тоже выслушает или сделает вид, но ухмыльнётся иронично. Он и сейчас сидел весь на грани сарказма.
«Что, – казалось, говорил весь его вид, – только вчера говорили об искренности, о деонтологии, а сегодня? Слабо пойти против шефа»?
Чёрт, этот Булгаков – препротивная личность…
– Но для всего есть и время, и место,– вступил, наконец, на опасную стезю Самарцев. – Любую работу можно раскритиковать и вывернуть наизнанку. Доктор ясно ответил, что вовремя взглянуть на контрольный снимок ему помешала занятость, что при нашей недоукомплектованности средним и младшим медперсоналом неудивительно. Доктор опытный, работает давно, сложившийся хирург. Ничего страшного в том, что утром приходится резко менять тактику и брать больную на стол, не случилось. Разобрать ошибку – не роковую ошибку – можно было и после, по результату. А так, – Самарцев, не в силах сдерживаться, резко встал со стула и отвернулся к окну, – в ярмарочно-балаганном стиле, на бегу, походя, при всех…

