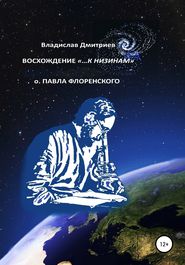 Полная версия
Полная версияВосхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
Как писал в своих воспоминаниях К. Круг:
«В становлении института В.И. Ленин сыграл очень большую роль, выделив из скудного бюджета страны большие деньги на закупку импортного оборудования и обеспечив размещение института в Москве». В результате к 1924 году институт состоял из следующих отделов:
1) машинно-аппаратный проф. К.И. Шенфер
2) измерительный проф. В.С. Кулебакин
3) высоких напряжений проф. Л.И. Сиротинский
4) радио проф. М.В. Шулейкин
5) слабых токов проф. В.И. Коваленков
6) технологии электроматериалов преп. Е.Ф. Комарков» [14].
Отделы начали работать, но вот с отделом технологии электроматериалов дело не заладилось. Эти воспоминания К. Круг, писал в 1931 году и ошибочно назвал отдел «электрических испытаний материалов» отделом «электроматериалов», так он будет назван позднее 1924 года, но это показывает как прижилось это наименование.
Электротехнической промышленности остро требовались современные электроизолирующие материалы: диэлектрики и технологии их изготовления, но институт ничего не мог предложить. Директору ВЭИ К.А. Кругу срочно требовался ученый, который мог бы возглавить это направление. Так в 1924 году в ВЭИ появился П.А. Флоренский, который к этому времени уже был широко известен среди электротехников. Следует особо отметить, что кадровая политика Карла Круга была прагматична, он сам был очень деятельным человеком, много сделавшим в своей жизни, и прекрасно понимал, что дело делают не столы и стулья, а конкретные специалисты. Под организацию института он собирал по всей Москве ведущих специалистов и технические направления, которые хоть в какой-либо мере были связаны с электричеством. Это оказалось верным решением, в институте стал формироваться костяк крупных ученых и очень широкая программа исследований. Работать в ВЭИ было престижно. В воспоминаниях К.А. Круга видно, как развивался институт:
«В результате значительно увеличилось число отделов института, и к началу 1925 года он состоял из отделов:
1) машинно-аппаратного К.И. Шенфер;
2) измерительного с подотделами:
а) светотехнический,
б) магнитный В.С. Кулебакин;
3) магнитно-метрического отдела в Московском университете В.К. Аркадьев;
4) высоких напряжений Л.И. Сиротинский;
5) отдела материаловедения, в наемном помещении на Покровке П.А. Флоренский;
6) вакуумтехнического отдела в Афанасьевском пер. В.И Романов;
7) рентгенотехнического отдела в Плехановском институте Н.Е. Успенский;
8) отдела ультрафиолетовых лучей в Афанасьевском пер. И.И. Яроцкий;
9) радиоотдела на Гороховской М.В. Шулейкин, В.И. Баженов;
10) акустического отдела А.И. Ширский;
11) отдела слабых токов В.И. Коваленков, М.Ю. Юрьев;
12) отдела промышленных испытаний А.Н. Ларионов» [14].
Начав работать в 1924 году в ВЭИ, Флоренский начинает вплотную заниматься научными исследованиями, в полной мере прочувствовав специфику инженерно-технической работы в крупном научно-исследовательском институте. Это важный факт его биографии, так как он объясняет, что последующие его мысли не результат умозрительных заключений на основе литературных источников, а результат конкретных обстоятельств, тем более что ему пришлось испытать практически все фазы научно-исследовательской деятельности организационного, административного и научного характера.
Флоренский формировал коллектив, тщательно подбирая сотрудников, занимаясь решением множества административных и научных вопросов. В те годы он предпринял большое количество командировок по стране на различные предприятия. Основная проблема в то время была в замене импортных электротехнических материалов, которые приходилось закупать за границей, так как свои отсутствовали. Вот поиском аналогов и разработкой технологий под эти аналоги и занимался коллектив отдела. Об этом времени сохранились воспоминания его сотрудников, по которым можно судить о стиле работы Павла Флоренского, его отношении к коллегам и коллег к нему. В материалах о. Андроника приведены воспоминания живописца и историка искусств Л.Ф. Жегина:
«В ту пору, вследствие своей необычной разносторонности, Флоренский был до предела загружен – его прямо-таки рвали на части. Он был членом ВСНХ, его приглашали на всякие ученые совещания и собрания, но главная его деятельность связана с “Главэлектро” и с Институтом, помещавшимся, кажется, в Гороховской улице. Туда я и отправился … что-то необычное, несовременное… было во всем облике Флоренского. Ходил он в своей рясе и камилавке, сгорбившись, опустив долу свои жгуче-черные глаза, как бы погруженный в какие-то неведомые глубины. … К нему поминутно обращались, что-то спрашивали. Он давал каждому неспешные, но, как я понял по тону – совершенно точные и безапелляционные ответы. Пришел какой-то молодой человек – студент или сотрудник – и стал говорить о своем решении предложенного Флоренскому вопроса. “Это не так”, – сказал Флоренский. Тот настаивал на своем, не очень вежливо перебивая и кипятясь. Опять тот же ровный и неторопливый тон – “Делайте по-своему, но это не так”. Молодой человек, по-видимому, обескураженный, ушел. Приходили еще и другие – опять вопросы, обращения, претензии и т.д.
“Вы видите, – обратился ко мне Флоренский, – какой здесь сумасшедший дом!”
В это время курьер принес из типографии кипу книг… «Это “У водоразделов мысли”?» – спросил я.
“Какой тут водораздел мысли”, —…. “Вы понимаете, … – Вам разрешат высказать Вашу основную мысль, но аргументировать не дадут – в таком виде все теряет всякий смысл”. Книги, принесенные к Флоренскому, назывались “Диэлектрики” … Мне бросилось в глаза имя автора – профессор П.А. Флоренский…
Из Главэлектро мы вышли вместе, и я проводил Павла Александровича. “Пойдемте пешком, – предложил он, – так удобнее разговаривать, и потом, – добавил он, – у меня нет денег”» [7].
Несмотря на то, что Флоренский трудился в Главэлектро, в ВЭИ, материальное положение, как и у большинства научных работников того времени, было незавидным и надо помнить, что его большая семья была у него на иждивении.
Еще интересный факт приведен в том же материале Л. Жегина:
«В 19<25> г. во главе Главэлектро стоял Л. Троцкий. Обходя все учреждение, Троцкий в лаборатории первого этажа заметил Флоренского, тот был в своей обычной белой рясе.
– Это кто такой?
– Профессор Флоренский.
– А, Флоренский, знаю!
Подошел к нему и предложил участвовать на съезде инженеров.
– Только, если можно, не в этом костюме!
Флоренский ответил, что не слагал с себя сана священника и штатское надевать не может.
– Да, не можете, тогда в этом костюме!
На съезде Флоренский делал доклад. Когда выходил на кафедру, слышались недоуменные возгласы – “поп на кафедре!” Доклад Флоренского был, как всегда, содержателен и блестящ по форме. Кончил под аплодисменты» [7].
Это одно из свидетельств о встрече с Л.Д. Троцким, который по работе знал Флоренского. Хотя вокруг этого факта ходит много разных легенд, вызванных неординарностью их личностей, но суть не в конкретике встречи, а в том, что они знали друг друга по совместной деятельности и что это потом, в 1937 году, повлияет на его судьбу. Однако, как рассказывал на конференции в ВЭИ внук П.А. Флоренского, профессор РУГН П.В. Флоренский:
«…вопрос о знакомстве Флоренского с Л.Д. Троцким несколько сложнее. Дело в том, что жена Троцкого – Наталия Ивановна Троцкая-Седова (1882-1962) заведовала (1918-1928) Отделом по делам музеев и охраны Народного комиссариата просвещения РСФСР (Музейного отдела Наркомпроса). В её непосредственном подчинении находился Музей-заповедник Троице-Сергиевой лавры, где трудилась Комиссия по охране его памятников искусства и старины, а одним из основателей Комиссии был П.А. Флоренский. Поэтому П.А. Флоренскому были выданы соответствующие удостоверения за подписью Н.И. Троцкой, которая много сделала для охраны музеев от разграбления» [15].
О характере и объемах работ, которые вел в институте Флоренский, можно судить по его записке 1926 года заведующему промышленным отделом Главэлектро, где видно, что все вопросы – чисто прикладные и направленные на решение реальных вопросов, и что он полностью погрузился в работу. Его эрудиция и аналитический ум позволяли обрабатывать большой технический материал и делать конкретные и продуманные предложения для решения массы сложных задач:
«Заведующему промышленным отделом Главэлектро
Рапорт
Мои занятия в настоящее время направлены по следующим линиям:
А. По элементному делу:
1) Литературная и экспериментальная подготовка материала нормализации сырья для элементов. Работа эта оказалась гораздо более сложной, чем можно было предполагать сначала, ввиду не исследованности связанных с нею вопросов, особенно, в отношении русского сырья и ввиду сложности самих процессов, происходящих в элементе.
2) Подготовка материалов к рационализации типов элементов; материал собран.
3) Разработка методики испытания элементов и конструирование аппаратуры для стандартных испытательных установок, каковыми должен быть снабжен всякий культурно-поставленный элементный завод….
Б. По карболиту:
1) Завершение исследовательской работы по трем основным сортам карболита. Цикл этих работ, ведущихся уже много времени, дает возможность выпустить монографию о карболите и произвести сравнительную оценку этого материала и подобных ему заграничных. По всей работе уже готовы чертежи, большая часть клише и материалы для 0,9 текста.
2) Завершение работ по изданию каталога продукции завода “Карболит”. Эти работы задерживаются мною сознательно, чтобы использовать во вступительной статье все данные по 1‑му. Фотографические снимки и большая часть клише уже готовы.
В. По секретной работе №7, ведущейся на средства Военного ведомства и взятой мною на себя, согласно Вашему распоряжению.
Г. По продукции Церизиново-Озокеритового завода Треста Туркменцероз.
Работа по исследованию свойств, применений, обработке и переработке озокеритов, церизинов, парафинов, и других побочных продуктов завода, предпринята мною в связи с кабельным делом, элементами (рациональная пропитка углей) и другими областями, где требуется соответственная изоляция (например, конденсаторы).
Д. По битуменам.
Крайняя необходимость иметь асфальт (кабельные муфты, изоляция шнуров, лаки, заливка аккумуляторов и элементов, компаундирование динамо и моторов, пропитка картона и проч.) заставили меня:
1) заняться обследованием наличных возможностей добывающей промышленности и выяснением свойств и применением различных битуменов;…
2) …овладеть процессом образования битуменозных мастик, чтобы сознательно приступать к осуществлению заданной комбинации свойств; задача эта была поставлена мне Вами, в настоящее время вопрос проработан и в лаборатории готовится ряд статей по нему и выполняются конкретные задания заводов…;
3) отыскать новые виды битуминовых веществ для электротехнического применения и выяснить себе их свойства (сланцевые пеки, сапропель, торфяные битумены и проч.) ….
Е. По кабельной бумаге.
Первою задачею было тут обзавестись потребной для исследования аппаратурой и сконструировать новые приборы. В большей части поставленной программы уже испытано значительное число русских и, для сравнения, иностранных бумаг. Готовится к печати сводка.
Ж. По прочим изоляционным материалам (дерево, каучук, лаки, слюда и друг.). Ведутся испытания в связи с текущими заданиями заводам и идет подготовка к систематической проработке этих материалов.
З. По базальтам, в ожидании разрешения вопроса с постройкою опытной печи, продолжаются предварительные чисто лабораторные опыты.
И. По изоляторному фарфору исследование закончено и изложение его переписывается для печати отдельной книгой.
П. Флоренский
<22> октября 1926 г.» [7].
По этой докладной записке видно, как интенсивна работа, какой объём приходится выполнять. Интересно, что ему приходилось заниматься всем спектром работ характерных для научного института включая выпуск каталогов, или как бы сейчас сказали – маркетингом. Монографию по карболиту он выпустит в 1928 году. Практически за 3 года под руководством Флоренского получило сильное развитие направление работ по исследованию новых диэлектриков для электротехнической промышленности и, мало того, творческий потенциал и работоспособность позволили подготовить отдельные книги по исследуемым вопросам. Все это проходило в тяжелых бытовых условиях, Флоренский в то время не имел своего жилья в Москве, так как он жил в Сергиевом Посаде и зачастую ему приходилось ночевать у В.Н. Лисева.
О том, как проходила его работа в то время можно судить по воспоминаниям С.П. Раевского – одного из потомков прославленного участника войны 1812 года:
«В середине двадцатых годов, … человеку без квалификации было не так-то просто найти работу. …. О наших мытарствах … стало известно П.А. Флоренскому. С желанием сделать добро он просил передать моей матери, что в руководимой им лаборатории требуется работник на должность лабораторного служителя и что он готов принять меня на эту должность, предупредив, однако, что работа грязная. Требовалось мыть химическую посуду, подметать пол, выносить мусор и т.п.
Я, … в назначенный день поехал в Москву по адресу – Гороховская улица (теперь улица Казакова), дом № 29, где располагалась эта лаборатория. Здесь состоялось мое знакомство с Павлом Александровичем. …Было это в марте 1925 года… Павел Александрович меня встретил приветливо, как уже давно ему знакомого человека, …тут же я был представлен трем научным сотрудникам, составлявшим тогда весь штат лаборатории; я, таким образом, стал четвертым.
Учреждение, в состав которого входила эта лаборатория, называлось ГЭЭИ, … и располагалась в двух сравнительно больших комнатах 4‑этажного кирпичного здания, основную часть которого занимал Электротехнический факультет Московского высшего технического училища. В одной из комнат нашей лаборатории проводились химические анализы, а в другой – физические опыты. Кроме того, была маленькая фотографическая комната. Рабочий стол Павла Александровича находился в химической комнате.
Лаборатория испытания материалов в это время только что организовывалась и институт (ГЭЭИ) для этих целей пригласил Павла Александровича, основная работа которого протекала в Главэлектро ВСНХ СССР. … При главке существовал Центральный электротехнический совет (ЦЭС Главэлектро), в состав которого наряду с крупнейшими учеными-электротехниками в качестве действительного члена входил П.А. Флоренский.
В течение всего 1925 года популярность лаборатории непрерывно возрастала. Требовалось увеличение штата сотрудников, которых к концу года насчитывалось 14 человек.
Вкратце скажу о специфике проводившихся исследований, … среди которых были: трансформаторное масло, битум, фарфор, карболит и прочие диэлектрики. Затем провода, электролиты, пластины для аккумуляторов, сухие элементы и т.п. Требовалось проведение химических анализов, определение физических свойств, электропроводимости, диэлектрических характеристик, прочности и множество других специальных исследований, которые здесь трудно перечислить. … Из сказанного следует, что руководитель лаборатории должен был обладать большим диапазоном знаний во многих областях науки и техники.
В нашей лаборатории под непосредственным руководством Павла Александровича были изготовлены и испытаны битумные массы для заливки кабельных муфт и другие диэлектрики, в частности, плавленый базальт, для чего летом 1925 года институт ГЭЭИ командировал Павла Александровича и В.М. Гиацинтова на Кавказ для осмотра месторождений базальта и получения его образцов» [7].
Флоренский в эти трудные годы становления направления сам подбирал в свой коллектив людей, с которыми ему было легче взаимодействовать и работать. Как человеку углубленному, полностью отдававшемуся работе, ему были необходимы сотрудники, которым он доверял, и которые его понимали, что было не всегда легко, учитывая его интеллект и эрудицию.
Флоренский о времени начала его работы в ВЭИ и о трудностях, которые ему пришлось преодолеть, пишет в своих воспоминаниях: «Первоначальная ячейка будущего Отдела материаловедения зародилась при самом возникновении Института, а именно в Отделе измерительном. … Ряд многочисленных и разнообразных задач, наметившихся в обсуждаемой области материаловедения, …привел дирекцию Института к мысли о необходимости перевести возникшую ячейку в помещение тогдашнего МВТУ. Тут в начале 1925 г. были оборудованы две комнаты и каморка – одна физическая, другая химическая, и чулан – помещение под фотографическую лабораторию. При расширении и углублении ставимых задач был выделен самостоятельный отдел, тогда называвшийся Отделом испытания материалов по образцу соответственных заграничных учреждений. Тогда в Отделе работали 3–4 научных сотрудника и почти не было младшего персонала. Трудность работы была обусловлена не только отсутствием сколько-нибудь подходящих внешних условий – оборудования, реактивов, справочников и т.д., но в не меньшей степени и новизною самого дела, для которого не имелось у нас каких-либо готовых образцов; заграничный же опыт, тогда сам бывший в стадии исканий, почти не доходил до нас. Таким образом, весьма большая и упорная работа пала на инкубационный период – выработку методики всевозможных испытаний, выяснение важности тех или других свойств, попытки добыть те или другие материалы или сырье для них. Поэтому большая часть производимой работы накапливалась как опыт Отдела, но опыт этот стал приносить плоды значительно позже…. В помещении на Гороховской улице Отдел просуществовал два года. За это время были сформулированы задачи Отдела, как активное овладение материальным базисом электротехники, а не только пассивное установление свойств готовых материалов. Как главная, перед сознанием работников Отдела ставилась задача использования новых видов сырья для уже существующих материалов и о создании новых видов материалов с заданным сочетанием свойств. В особенности важной сознавалась экономическая сторона материаловедческой проблемы –освобождение промышленности от иностранного сырья и проблема эксплоатационная – овладение материалами до такой степени, чтобы быть в состоянии давать отчетливый прогноз о поведении данного материала в тех или других условиях службы и о ходе их постарения и направлять процесс желательным образом. Отсюда возникла мысль о названии, отвечающем целевой установке Отдела, и желание переименовать его из Отдела испытания материалов в Отдел материаловедения. Однако, это желание, кроме недооценки задач Отдела и присущего электротехникам недостаточного понимания физико-химических основ материаловедения, технологических процессов материало-производства, наталкивалось также и на формальное указание о не существовании слова материаловедение. Впрочем, до известной степени такое указание было справедливо, поскольку это новое слово, созданное в Отделе, выражало новую, еще не освоенную установку и потому казалось чуждым. Тем более сознавалась в Отделе необходимость закрепить позиции новым термином. Лишь при помощи настойчивых усилий название Отдел материаловедения, или точнее – электроматериаловедения, был проведен в жизнь. Завоевание этого термина было важным этапом развития Отдела» [7].
Из этих воспоминаний Флоренского следует, что слово, «материаловедение» которое широко используется и в настоящее время, было введено в научный и бытовой обиход именно им.
С 4 августа 1925 года, когда было утверждено Положение о Всесоюзном научно-исследовательском электротехническом институте, ГЭЭИ становится Всесоюзным электротехническим институтом – ВЭИ.
По воспоминаниям С.П. Раевского:
«В конце 1926 года стало очевидным, что далее наша лаборатория не может существовать в такой тесноте. Нам подыскали просторное помещение … вблизи Покровских ворот, где мы заняли целиком особняк с обширным подвальным помещением. В нем мы просуществовали с 1927 по 1929 год включительно. … После двух комнат на Гороховской новое помещение лаборатории вызывало восхищение. К небольшой передней прямо против входной двери примыкала небольшая комната, предназначенная служить кабинетом Павла Александровича. Справа дверь в апартаменты лаборатории, состоящие из двух больших комнат, затем одной, сравнительно небольшой и еще, совсем маленькой, для сторожа. С первого этажа лестница вела в полуподвальное помещение такого же размера, как комнаты первого этажа.
Штат лаборатории к этому времени насчитывал около 20 человек. Когда все помещение было оснащено надлежащим оборудованием, и началась нормальная работа…» [7].
Характер научной деятельности Флоренского, интенсивность работы, объём и направления описываются в его воспоминаниях, где он описывает это время так: «До известной степени условия работы облегчались новым переселением Отдела. Нижний этаж дома № 24 на Покровке сделался в 1927 г. на следующие три года новым, теперь уже значительно расширенным, местопребыванием Отдела материаловедения, причем число сотрудников возросло против первоначального примерно в десять раз. Однако это расширение Отдела далось лишь с большой потерей времени и труда, так что нормальный ход работ был прерван, по крайней мере, на полгода.
В новом помещении продолжалось большинство ранее начатых работ. Вместе с тем был проведен ряд новых.
В области электрохимии главным предметом изучения были гальванические элементы.
I. По отношению к элементам типа Лекланше были подвергнуты предварительному изучению чиатурские марганцевые руды, как материал для деполяризаторов; обследованы графиты союзных и отчасти заграничных месторождений; разработаны новые способы изучения графитов, произведена работа по элементным углям, изучены различные заграничные и союзные сажи; открыта возможность активировать обыкновенную кудиновскую сажу, дающую в элементах … эффект не худший, чем американский фильбургин; выяснен наиболее рациональный способ парафинировки элементных углей; найдены способы пересчета емкости и энергии элементов при переходе от одного режима разрядки к другому; произведены сравнительные испытания смолок (для заливки элементов); составлены проекты технических условий на большинство материалов, применяемых в элементной промышленности. Перечисленные работы дали основание для улучшения качества элементов, главным образом со стороны емкости и отчасти со стороны сохранности.
2. Наряду с элементом типа Лекланше были подвергнуты изучению элементы воздушной деполяризации типа Ле-Карбон. В Отделе был построен элемент воздушной деполяризации с нашатырем и угольной массой из ококсованной торфяной подстилки, патоки и сажи, обладающей устойчивой электродвижущей силой и значительной емкостью. Свойства полученных угольных масс были всесторонне изучены, а также разработан вопрос о защитных пленках.
3. Разработка методики испытания электродных углей для электролиза и сравнительное испытание ряда заграничных электродов…
4. К электрохимической же области относится работа по выяснению зависимости емкости и энергии щелочных железо-никелевых аккумуляторов от температуры…
5. Работа по зависимости скорости реакций и контактной разности потенциалов от кривизны поверхности – вопрос, представляющий значение как теоретическое, так и практическое, особенно в области коррозии.
По диэлектрическим материалам.
6. Были всесторонне испытаны изоляционные ткани типа кембрика, конденсаторная бумага, мрамор различных союзных месторождений, эбонит, прессшпан, ряд изоляционных материалов союзного и заграничного производства, различные резиновые изделия и другие.
7. На основании произведенной ранее методологической работы были подвергнуты сравнительному изучению изоляторный фарфор союзного производства и многочисленных заграничных фирм.
8. Были разобраны на слюдах из нескольких месторождений различные методологические вопросы и изучено значение поверхностных явлений.
В области создания новых изоляционных материалов Отдел занимался:

