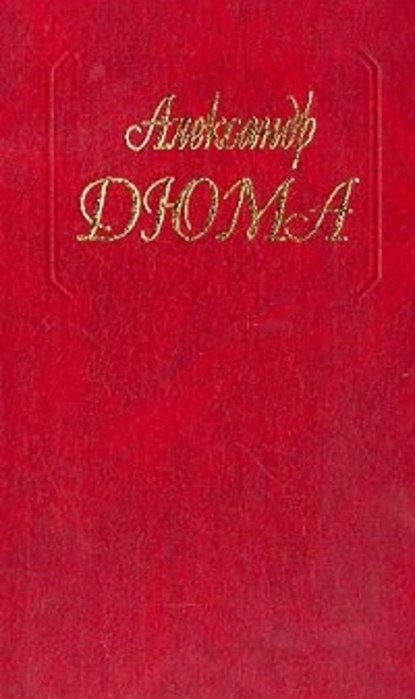 Полная версия
Полная версияОгненный остров
– Если вы не были его сообщником, почему же вы ушли без меня из Меестер Корнелиса?
– Господин ван ден Беек, – почти торжественно начал метр Маес, – нотариус Маес никогда не имел привычки осведомляться о действиях и поступках частного лица – господина Маеса, и я призываю вас присоединиться к этой благоразумной сдержанности; мы только выиграем оттого, что не станем примешивать серьезные дела к тем, которые таковыми не являются. Если вы в самом деле хотите высказать господину Маесу то ужасное обвинение, которое только что слетело с ваших губ, идите к нему, он вам ответит; нотариусу достоинство не позволяет ответить вам; впрочем, он действительно ничего не помнит о том, на что вы ссылаетесь.
– Охотно верю, вы были мертвецки пьяны!
Метр Маес пропустил мимо ушей это замечание, он слегка прикрыл веками выпуклые глаза, как случается с человеком, смакующим воспоминание о наслаждении, только и всего.
– Перед вами только ваш нотариус, который говорит вам, своему клиенту: «Как мне поступить с этим документом, по которому от вас требуют шестьсот тысяч флоринов, в соответствии с припиской, добавленной к завещанию доктора Базилиуса, вашего дяди, в пользу девицы Джейн Трумпер, упоминаемой в указанной приписке?»
Эусеб, не отвечая, бросился на диван и закрыл лицо руками.
– Этот документ был доставлен в мою контору, как сказал направивший его судебный исполнитель, для того чтобы избежать огласки и примирить необходимость судебных мер с предосторожностями, каких требует состояние госпожи ван ден Беек; вот, посмотрите.
Нотариус протянул бумагу Эусебу; тот издал вздох, напоминавший рыдание, взял документ и смял его в руках.
– Простите! – вскричал метр Маес. – Но эту бумагу нельзя рвать; подумайте, ведь мы, возможно, будем вынуждены показать ее госпоже ван ден Беек, поскольку наследницей является она, а не вы.
Бледное лицо Эусеба стало совершенно бескровным.
– Сообщить Эстер обо всем этом, сударь? Что же, вы хотите убить ее? Не пытайтесь этого сделать, если ваша жизнь вам дорога!
Несмотря на то что Эусеб сопроводил эти слова грозным взглядом, нотариус нимало не смутился; он уселся рядом со своим клиентом и безмятежно втянул носом понюшку табаку.
– Ну, – продолжал он, кончиками пальцев стряхивая несколько крошек, запачкавших его ослепительную сорочку, – теперь мне нужна составленная по всем правилам доверенность, которую я поручаю вам под каким-нибудь предлогом получить от госпожи ван ден Беек; затем мы вместе рассмотрим возможность отказать истице в ее требованиях; мы поищем какое-нибудь нарушение формы в документе, упоминаемом в требовании об уплате; мы заведем тяжбу и, – если только государство не вмешается на основании статьи завещания покойного Базилиуса, назначающей в случае возникновения спора его наследником правительство, – что ж, возможно, нам удастся пощадить и чувства госпожи ван ден Беек, и ее кошелек, в котором изъятие суммы в шестьсот тысяч флоринов неминуемо проделает значительную брешь.
Странная вещь! Эусеб, который, пока безмятежно пользовался богатством доктора Базилиуса, нимало его не ценил, много раз пытался избавиться от него, внезапно, но очень объяснимо, переменил мнение и ощутил потрясение, когда увидел, что помимо его воли у него хотят отнять значительную часть этого состояния.
Золото подобно женщинам: только тогда, когда они от вас уходят, можно понять, любите ли вы их и как сильно любите.
– Но это невозможно, чтобы меня заставили выплатить такую сумму, – в волнении расхаживая по комнате, сказал Эусеб. – С помощью не знаю какого колдовства они сделали со мной что хотели.
– Я думаю, что, вы, дорогой господин ван ден Беек, как многие мои знакомые, зачерпнули это колдовство со дна бутылки. Какого черта! Здесь есть и ваша вина! Вы не привыкли пить, и это подвело вас.
– Нет, нет, я докажу, что стал жертвой дьявольских происков, что те, кто преследует меня, – существа из потустороннего мира и что сила и добродетель не могут победить злых чар.
– Господин ван ден Беек, – возразил нотариус. – Если вы станете говорить нашим славным голландским судьям о колдовстве и злых чарах, боюсь, вы совершенно испортите дело. Нам же нужна хорошая опора, на которой мы сможем основывать нашу защиту, а это легче найти в пандемониуме крючкотворства, чем в обрядах оккультных наук. Но, поскольку, как мне кажется, вы не расположены исполнить требование девицы Джейн Трумпер, я не могу скрыть от вас, что процесс вызовет огромный скандал.
Это замечание привело Эусеба в отчаяние: как ни огорчала его возможность утраты шестисот тысяч флоринов, он в первую очередь думал об Эстер и не мог без ужаса представить себе, какое горе причинит ей.
Его печаль была такой глубокой, что обезоружила метра Маеса, строго исполнявшего свои обязанности.
– Ну, дорогой господин ван ден Беек, не надо так расстраиваться, какого черта! – сказал он. – Многие из тех, кто станет осуждать вас, поверьте мне, пожалеют, что не были на вашем месте. Испугавшись этих проклятых змей, я убежал и вовсе не слышал признания, упомянутого в документе.
Здесь метр Маес приступил к бесконечному изложению общих мест, к каким всегда сводятся запоздалые упреки; он излил на Эусеба целую литанию несвоевременных замечаний, подобно тому деревенскому учителю, что таким же образом отвечал на отчаянные призывы тонущего ребенка. Однако это похвальное красноречие доказало Эусебу добросовестность нотариуса, и он понял, что порицания заслуживала лишь легкомысленность поведения метра Маеса и его неразборчивость в знакомствах, – то есть свойства, о которых ван ден Беек знал и проявлению которых, увы, напрасно не смог воспротивиться.
В заключение своей речи нотариус, дружески взяв клиента за руку, сказал ему:
– Ну же, одна строчка, написанная на хорошей гербовой бумаге, больше продвинет наши дела, чем все ваши вздохи, даже такие мощные, что могли бы гнать трехмачтовое судно от Батавии до Амстердама. Расскажите мне все, ничего не скрывая; нотариус, вместе с врачом и священником, входит в число трех исповедников, необходимых человеку в жизни.
Эусеб колебался, стоит ли полностью открыться нотариусу и рассказать ему обо всем, что произошло с того дня, как доктор Базилиус вошел к нему в дом; несколько минут он пребывал в молчании и нерешительности.
С одной стороны, он, как все несчастные люди, испытывал потребность излить душу и облегчить этим тяжесть своего горя; с другой – ему казалось, что, поверив чужому человеку свои тревоги, он облечет их в плоть, даст жизнь тому, что сам мгновениями хотел считать только призраком; ему претило постороннее свидетельство существования Базилиуса, он надеялся, отвергая реальность, убить воспоминание.
В результате этой борьбы и пережитого потрясения, Эусеб утратил присущую ему твердость характера; он больше не чувствовал в себе, как накануне, решимости искать сведений о странном человеке, которому был обязан своим богатством; он начал терять неколебимое мужество, до сих пор позволявшее ему смотреть опасности в лицо.
Наконец, насмешливая фраза, которой нотариус отозвался на его слова о злых чарах и колдовстве, внушала ему опасения, что метр Маес сочтет этот странный рассказ результатом умственного расстройства, и это соображение, перевесив все остальные, остановило его.
Он ограничился тем, что рассказал о тех происшествиях ночи в Меестер Корнелисе, какие мог вспомнить.
– Здесь есть, – сказал метр Майес, – только одна небольшая западня, к устройству которой может оказаться причастным мой друг Цермай.
– Цермай? Но Цермай богат! Нотариус пожал плечами.
– Никогда нельзя быть достаточно богатым, если хочешь устроить для себя на земле рай Магомета.
– Но он был со мною крайне предупредителен и любезен.
– Еще одно подтверждение. Если бы у меня оставались сомнения, то ваши слова рассеяли бы их. У Цермая не было никаких оснований так кидаться вам на шею. Это был простой расчет знатного туземца – он, должно быть, подмешал вам в вино какой-то наркотик. Вот видите, если здесь и была порча, – но не в том смысле, какой вы в это вкладываете, – то, по крайней мере, о колдовстве речь не идет.
Заключение нотариуса принесло Эусебу облегчение.
Расстроившись из-за необходимости выбора между скандальным процессом, огорчением, какое он принесет Эстер, и утратой трети состояния, он утешался тем, что влияние доктора Базилиуса здесь ни при чем, что он оказался жертвой человеческой алчности, а не злобности демона.
Эта мысль успокоила его страхи.
Она позволила ему надеяться на то, что он легко сможет сохранить две другие трети состояния, которым ничто не угрожает.
С большей ясностью в мыслях он рассмотрел вместе с метром Маесом те возможности, которые оставляло ему судебное дело.
Нотариус придерживался мнения, что, прежде чем предъявлять иск, следует рассказать обо всем Эстер, без ее помощи и помимо нее трудно было бы вести процесс, где она окажется одной из сторон.
Он посоветовал Эусебу положиться на мягкость и снисходительность женщины, всецело ему преданной, и объяснил, что та незначительная ошибка, какую ему придется признать, не является виной, поскольку совершилось помимо его воли.
Эусеб ван ден Беек оставался непреклонным; необходимость признаться в своей слабости оскорбляла его гордость, и, хотя он только что убедился в человеческом непостоянстве, его вера в себя (несмотря на то что она и погубила его) оставалась такой же абсолютной. Как мы уже говорили, метру Маесу не слишком хотелось предавать огласке это дело, но он полагал свой долг в том, чтобы с истинно спартанской самоотверженностью сопротивляться решению клиента.
Все было напрасно; необходимость предварительного признания склонила Эусеба к жертве, тяжелой для его сердца, в котором уже начала пробиваться скупость.
Он проводил метра Маеса до его дома и со вздохом под-ргисал документы, неободимые для выплаты суммы, предназначенной для выполнения одной из статей приписки в завещании доктора Базилиуса.
Часть вторая
XVIII. Индийский доктор
Эусеб вернулся домой совершенно удрученным.
Он сильно беспокоился об Эстер, которую оставил в тяжелом состоянии, но, к большому удивлению, ему не удавалось сосредоточить непокорные мысли на той, кого он любил, и, отгоняя печальные предчувствия, терзавшие его мозг подобно черным призракам, он размышлял о финансовых возможностях заделать огромную прореху, образовавшуюся в его богатстве, и заглушал подсчетами тревоги сердца.
Напрасно он старался отделаться от этой постыдной озабоченности: казалось, она росла вместе с теми усилиями, что он предпринимал против нее, и в воображении молодого человека заняла место у изголовья постели умирающей жены.
Как у большей части богатых особняков на Вельтевреде, перед домом Эусеба был двор с посыпанными песком дорожками и беседкой, стоявшей среди цветущих деревьев. На полу беседки Эусеб увидел лежавшего там человека.
Лицо этого человека было слишком выразительным, чтобы можно было забыть его, однажды увидев.
Эусеб узнал Харруша.
Он подошел поближе и пнул его ногой – не для того, чтобы разбудить, но желая вырвать из своего рода экстатического состояния, в каком тот постоянно пребывал.
– Чего ты хочешь? – спросил заклинателя змей Эусеб.
– С каких это пор тот, кто звал, спрашивает того, кто явился: «Зачем ты пришел?»
Эусеб вспомнил о встрече, назначенной им заклинателю змей; но, как мы уже сказали, ему тяжело было говорить о Базилиусе, и это нежелание еще усилилось с тех пор, как он убедился (или думал, что убедился) в том, что его злой гений не подстроил происшествие в Меестер Корнелисе.
– Сейчас я не могу выслушать тебя, – ответил он Харрушу. – Я поговорю с тобой в другой раз.
– Дорожная пыль иссушила гортань Харруша, камни изранили ему ноги; неужели ты заставишь его вновь пуститься в дорогу в час, когда тьма вот-вот окутает землю, и он не сможет убежать, если встретит тигра, не сможет призвать на помощь своего Бога, если зверь нападет на него? Позволь мне провести ночь в прихожей твоего дворца; вели дать мне немного воды; завтра я избавлю тебя от своего присутствия.
Эусебу было отвратительно все, что напоминало Ме-естер Корнелис, и, хотя фокусник, чьи притчи-советы пришли в ту минуту ему на память, никак не мог быть заподозренным в причастности к заговору, какой Эусеб приписывал Цермаю, присутствие Харруша было ему неприятно. И все же он не мог ответить отказом на столь скромную просьбу.
– Ты прав, – ответил Эусеб. – И я не только прикажу позаботиться о тебе, но и пришлю обещанный подарок.
Харруш молча вернулся на прежнее место на полу беседки; казалось, он в самом деле смертельно устал. Эусеб вышел и торопливо поднялся в спальню Эстер.
Там царил беспорядок, слышались крики и рыдания; состояние больной не только не улучшалось, а, напротив, ухудшалось и стало таким тяжелым, что доктор объявил служанкам: он не отвечает за жизнь их госпожи.
Несмотря на то что он прибегал к возбуждающим средствам, Эстер все еще не пришла в сознание.
Невозможно описать отчаяние Эусеба, увидевшего свою возлюбленную в таком состоянии.
Купив ей жизнь ценой покоя своего собственного существования, теперь именно он станет причиной ее смерти!
Он спрашивал себя, не настала ли предсказанная доктором Базилиусом развязка, конец его вечной любви к Эстер. Он обращался к своей совести, перебирал воспоминания, терзал память, добиваясь ответа: не мог ли он, совершая проклятую ошибку, каким-то образом содействовать исполнению чудовищного замысла, который отнимет у него ту, кого он чудом сохранил. И находил в своем сердце лишь безусловную любовь, лишь полную преданность; но он обвинял и любовь и преданность, находя их не такими беспредельными, как ему того хотелось; он разражался рыданиями, прерывая их бранью по адресу сверхъестественного существа, чья зловещая рука чувствовалась во всем, что с ним случилось.
Так прошел весь вечер.
Наступила ночь; пульс Эстер все слабел.
Опечаленный доктор призвал Эусеба быть мужественным и объявил, что всякая надежда спасти молодую женщину потеряна, что его долг – сосредоточить все усилия на спасении жизни ребенка.
Охваченный скорбью, Эусеб отклонил эту крайнюю меру, и врач, ничего не добившись, покинул больную.
Видя, что он уходит, и решив, что все кончено, Эусеб кинулся к жене и поклялся умереть вместе с ней.
В эту минуту дверь отворилась и на пороге показался Харруш.
При виде его странного темного лица, обрамленного тюрбаном из грубого серого полотна, его фигуры в длинном коричневатом рубище служанки Эстер в ужасе закричали.
Эусеб поднял голову, но он был в таком отчаянии, что не удивился и не упрекнул огнепоклонника за его дерзость; ему казалось совершенно естественным, что весь мир вместе с ним облекся в траур; впрочем, большое горе уравнивает людей, они принимают слезы бедняков как драгоценный дар.
Но Харруш пришел вовсе не для того, чтобы оплакивать Эстер.
Он направился прямо к ее постели и легонько дотронулся пальцем до Эусеба.
– Что тебе? – спросил тот.
Вместо ответа Харруш показал на больную рукой. Эусеб не понял его жеста; позади Харруша ему померещился призрак Базилиуса.
– Отнять ее у меня?.. Никогда! – закричал он. – Живая или мертвая, эта женщина принадлежит мне!
– Я не собираюсь отнимать ее у вас, я пришел сохранить вам ее.
– Ты? – с презрительным удивлением переспросил Эусеб.
– Да, я, жалкая трава, которую прохожие попирают ногами, драгоценнее золота, подбираемого ими за его блеск.
– Значит, теперь ты, – Эусеб зловеще рассмеялся, – теперь ты назначишь цену за услугу, какую окажешь мне. Ну, чего ты хочешь? Говори, но будь поскромнее в своих желаниях, потому что, если тебе нужна моя жизнь, я не смогу дать ее тебе, я уже отдал ее твоему другу Базилиусу.
– Тот, кого вы называете Базилиусом, вовсе не был моим другом. Я не прошу никакого вознаграждения за спасение вашей жены; преступно назначать цену человеческой жизни: разве солнце, которому мы обязаны существованием, торгует своими лучами?
– Нет, – уныло отвечал Эусеб. – Довольно с меня чар и колдовства! Несчастье пришло в этот дом через вмешательство демона; пусть оно уйдет отсюда вместе с нашими душами, ее и моей; мне все равно, пусть и я умру, но у меня нет больше желания прибегать к роковому искусству злых духов и просить их совершить для меня еще одно чудо.
– Отчего вы не всегда были так рассудительны, так смиренны? Но успокойтесь, я не из тех, кто отталкивает соль, символ мудрости и бессмертия; мое искусство принадлежит этому миру, и, должен ли я творить добро или совершать зло, мне его довольно, – прибавил Харруш, бросив на Эусеба взгляд, полный столь плохо скрытой ненависти, что тот почувствовал, как усиливается его отвращение к заклинателю змей.
– Нет, – сказал он. – Я не хочу пользоваться твоими услугами, уходи.
– Ты не имеешь права сказать мне: «Уйди».
– Почему?
– Человек срезает стебель мантеги, оставляющей после себя только легкий пух, уносимый ветром, – пусть будет так, Бог создал ее роскошную окраску лишь для того, чтобы на мгновение порадовать твои глаза, развлечь тебя; но срубить банановое дерево, когда ствол его клонится под тяжестью желтеющих гроздьев, готовых стать вкусными и полезными плодами, – преступление.
Точность этого образа поразила Эусеба.
Приблизились служанки Эстер; ужас, внушенный им появлением Харруша, уже рассеялся.
Они увидели в нем всего-навсего одного из туземных лекарей, популярных на Яве даже среди самых богатых колонистов, и, будучи на его стороне, стали упрашивать Эусеба, чтобы он доверил ему лечение Эстер, и подкрепляли свои мольбы самыми невероятными примерами.
– Хорошо, – согласился Эусеб. – Но, поскольку я не желаю, чтобы этот человек для ее спасения воспользовался другими снадобьями, кроме тех, что поставляет наука или природа, он будет действовать лишь в присутствии европейского врача.
К изумлению женщин, знавших, как неохотно дикари открывают свои секреты, Харруш примирился с этим требованием.
Одна из служанок побежала за голландским врачом, и тот, пожав плечами, принял сделанное ему предложение; впрочем, он находил состояние больной безнадежным и решил, что можно позволить эту бесполезную попытку спасти ее.
Харруш во время этих предварительных переговоров сохранял достойный и холодный вид; он составил список лекарственных растений, и их поспешили доставить.
Он не требовал, чтобы ему позволили самому обработать травы, он давал указания служанкам; те приготовили питье и силой влили его сквозь сжатые зубы несчастной женщины. Убедившись, что она приняла достаточно снадобья, огнепоклонник спокойно и невозмутимо покинул комнату, как человек, уверенный в успехе, и вернулся на прежнее место в беседке.
К великой радости Эусеба и крайнему изумлению врача, эффект лекарственных трав был мгновенным и решительным: едва начали действовать первые капли целебного напитка, как глаза больной открылись и на ее лице не осталось следа страшного потрясения, только что испытанного ею. Она искала взглядом Эусеба и протягивала к нему руки.
Признаться ли? Эусеб, приняв с глубокой радостью заверения врача, что жизнь его жены совершенно вне опасности, бросил холодный и почти безразличный взгляд на ребенка, так дорого ему доставшегося. Теперь, когда он получил его, ему казалось что никогда ребенок не даст того счастья, какого он ожидал, строя в течение девяти месяцев планы будущего.
До своего пробуждения Эстер оставалась спокойной, хотя была бледна и улыбалась во сне. Окончательно уверившись в том, что злополучная вчерашняя сцена не будет иметь никаких досадных последствий, что ничто не мешает выздоровлению жены, Эусеб, когда возбуждение его улеглось, вернулся в то самое состояние, в каком накануне покинул нотариуса. Он вновь был поглощен прежними заботами и теперь, видя Эстер перед собой, держа ее руку в своей, больше не думал об опасностях, каким она подверглась, о новом чуде, сохранившем ей жизнь; он был занят огромным убытком, с которым вынужден был смириться, и рассматривал представлявшиеся его уму возможности восполнить ее.
Он приказал подать лошадей, взял шляпу и, не дав жене, только о нем и думавшей, хоть что-то сказать, отправился в свою контору в Батавии; он и не поинтересовался, куда делся Харруш.
Впрочем, ничто не могло заставить его пожалеть о своем решении, поскольку в первый раз его дела представились ему в благоприятном свете; в первый раз ему удалось со значительной прибылью совершить сделки, которые еще вчера, казалось, могли принести лишь отрицательный результат.
Он вернулся домой очень веселым; впервые он узнал опьянение успехом, овладевающее самыми сильными натурами, смущающее самые уравновешенные умы, тревожащее самые праведные сердца.
Эстер тоже была весела; но, увидев мужа, молодая женщина притворилась, будто дуется, что придало еще большее очарование ее смеющемуся личику.
– Друг мой, – произнесла она, – у меня к тебе много упреков.
– Они будут желанными; я испытываю потребность в огорчении, меня пугает радость, вызванная твоим счастливым разрешением, – ответил Эусеб, совершенно забывая присовокупить к нежданному выздоровлению жены удачную продажу большой партии кофе. – Говори.
– О! У меня, если ты не возражаешь, имеется длинный список; прежде всего скажу тебе, что нахожу очень дурным бросить меня в такой день, как сегодня.
– Каюсь, – сказал Эусеб, запечатлев на лбу Эстер поцелуй.
– Затем, – продолжала она, – как же тебе не пришло в голову привести ко мне этого бедного человека, который своими травами, тем, что вы называете народными средствами, не только спас мне жизнь – я дорожу ею лишь ради тебя, – но и дал ее нашему дорогому ангелочку?
– В самом деле, я совершенно забыл о бедняге Харру-ше! Где он?
– Он ушел.
– Ушел прежде чем я успел поблагодарить его, вознаградить за оказанную услугу и бескорыстие так, как он того заслуживал?
– Пока тебя не было, мне рассказали о том, что произошло; я подумала, что могу взять заботу о благодарности на себя, и велела позвать его.
– Сюда? – покраснев, спросил Эусеб; он испугался, что заклинатель змей мог рассказать Эстер о первой их встрече. – И что он тебе ответил?
– На мои изъявления благодарности – почти ничего, и решительное «нет», когда я заговорила о вознаграждении, умоляя его принять.
– Странно.
– Тем более странно, что он не захотел ничего из той пищи, что предложили ему слуги, выпил лишь немного воды и отказался покинуть беседку, где обосновался, чтобы спать под нашим кровом.
– Я найду его, Эстер, будь спокойна, и, надеюсь, нам удастся доказать ему нашу признательность.
– Но я не закончила, – продолжала молодая женщина.
– Что еще? – забеспокоился Эусеб.
– Вот что: я дарю вам самое прелестное маленькое существо, о каком может мечтать отец, ангелочка такого же белокурого, свежего, розового, такого же очаровательно пухленького и так же усеянного ямочками, как те, что окружают Пресвятую Деву, чей образ помещен в главном алтаре той церкви, где нас обвенчали, а этот жестокий и бесчеловечный отец сразу же оставил умирать от голода чудесный подарок, что я ему сделала.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Увы! – отвечала молодая женщина, по щеке которой тихо покатились две слезинки. – Ты сам знаешь, Господь дважды отказал мне в высшем счастье быть матерью: по мнению врачей, я не должна питать свое дитя собственной кровью и жизнью, и мне приказано уступить это сладкое преимущество чужой женщине!
– Ах, Боже мой! В самом деле, кормилица! – воскликнул Эусеб. – Господи! Прости меня, но я был так взволнован, до того потрясен сегодня утром, что уже не помнил себя.
– Вы прощены, – ответила Эстер. – И тем более прощены, что ваше безразличие совершенно не мешало нам обзавестись самой очаровательной в мире кормилицей.
– Ах так! И кто же позаботился о том, чтобы найти ее для нас?
– Кто! Да наш добрый гений.
– Не понимаю тебя.
– И все же я достаточно ясно выражаюсь; разве не стал для нас добрым гением тот бедный человек, который в своей простоте оказался более сведущим, чем врач, – одним словом, индиец.
– Харруш! Харруш привел тебе кормилицу? – изумился Эусеб. – Но надо же знать, что это за женщина, выяснить, где он ее нашел, откуда она, кто она!
– Уж не думаете ли вы, что бедняга, выхаживавший меня, захочет отравить нашего ребенка? Врач осмотрел ее и полностью одобрил этот выбор, так что я совершенно не боюсь вашего неодобрения; взгляните на нее, если хотите.
С этими словами г-жа ван ден Беек отодвинула одну из занавесок, окружавших ее постель, и показала ему молодую женщину, сидевшую с ребенком на руках и утопавшую в складках камки.
Это была негритянка; необычная ее красота поражала, хотя ее кожа цветом и глянцем напоминала эбеновое дерево; на вид ей было не больше шестнадцати лет.
Вы ознакомились с фрагментом книги.

